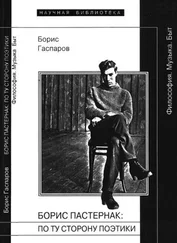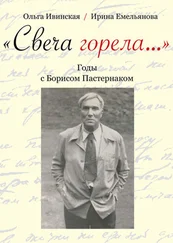«Научишься шагом, а после хоть в бег», –
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.
Одних это всё ослепляло. Другим –
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.
Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.
Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника,
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты –
О чем ты? Опомнись! Пропало… Отвергнут.
*****
Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё – живо. И всё это тоже – подобья.
О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описанье!
Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел –
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.
Нет, я не пойду туда завтра. Отказ –
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, –
Что будет со мною, старинные плиты?
Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкою на оттоманке поместится.
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется – спасут.
Рассудок? Но он – как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916, 1928
Es braust der Wald, am Himmel zieh’n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal’ ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge.
Nic. Lenau [2]
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, – лавиной вернуся.
Лето 1917 года
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы, и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.
Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и гладясь
Иззябшей шерстью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу