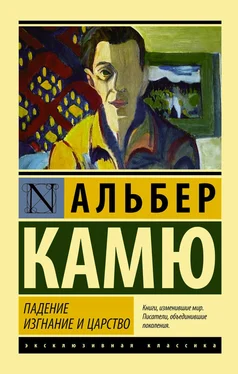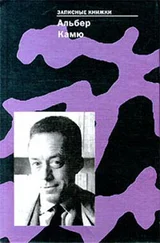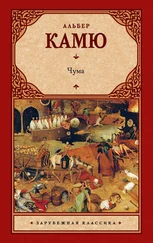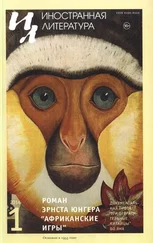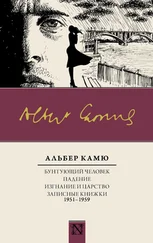Он шевельнулся, нет, звук донесся с другой стороны, это они, мои хозяева, летят стаей черных птиц, набрасываются на меня, хватают, а-а-а! да, бейте меня, они испугались за город, они уже видят его со вспоротым брюхом, воющим от боли, они боятся мести солдат, которую я навлек, и поделом священному городу. Теперь защищайтесь, бейте, бейте сначала меня, вы владеете истиной! Мои господа победят затем и солдат, победят слово и любовь, пройдут через пустыни и моря, черными покрывалами затмят свет Европы, бейте в живот, нате, бейте в глаза, рассеют соль по всему континенту, растительность и молодость зачахнут, и толпы немых со спутанными ногами поплетутся вместе со мной по пустыне мира под жестоким солнцем истинной веры, и я не буду больше одинок. О, как больно, как больно, их ярость мне приятна, они распинают меня на седле, пощадите, я улыбаюсь, я благословляю удар, пригвоздивший меня.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Как тиха пустыня! Ночь, я один, хочется пить. Подожди еще, в какой стороне город, шум вдали, солдаты, быть может, победили, нет, нельзя, солдаты, даже победившие, недостаточно жестоки, они не способны сделаться царями, они опять скажут, что надо становиться лучше, и снова миллионы людей будут метаться, разрываясь между добром и злом, о идол, почто ты оставил меня? Все кончено, мучает жажда, тело горит, непроглядная ночь застилает глаза.
Какой долгий, долгий сон, я пробуждаюсь, нет, я умираю, встает заря, для всех живущих – первый луч, новый день, а для меня – неумолимое солнце и мухи. Кто это говорит, никого, небо не отверзлось, нет, нет, Бог не говорит с пустыней, но чей же это голос: «Если ты готов умереть за ненависть и силу, кто простит нас?» Может, это другой язык во мне или же это тот, кто не желает умирать и повторяет у меня в ногах: «Мужайся, мужайся, мужайся»? Что, если я снова ошибся? Люди, бывшие мне некогда братьями, о одиночество, я взываю к вам, не оставьте меня! Вот, вот кто ты, истерзанный, с окровавленным ртом, это ты, колдун, солдаты победили тебя, там горит соль, это ты, мой возлюбленный господин! Сбрось личину зла, сделайся добром теперь, мы ошиблись, мы начнем сначала, мы построим новый город, город милосердия, я хочу вернуться домой. Да-да, помоги мне, вот так, протяни руку, дай…
Горсть соли засыпала рот болтливого раба.
Давно наступила зима, а над городом, уже пробудившимся от сна, вставал поистине лучезарный день. За молом голубизна моря сливалась с сияющей лазурью неба. Но Ивар не замечал этого. Он тащился на велосипеде вдоль бульваров, господствовавших над портом. Больную ногу он держал неподвижно на подножке, заменяющей педаль, а здоровой работал изо всех сил, одолевая мостовую, еще влажную от ночной сырости. Он ехал, не поднимая головы, скрючившись над рулем, по привычке старался держаться поодаль от трамвайных рельсов, хотя по ним уже не ходил трамвай, вильнув в сторону, уступал дорогу нагонявшим его машинам и время от времени откидывал локтем за спину съезжавшую сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак. При этом он с горечью думал о содержимом сумки. Вместо его любимого омлета по-испански или бифштекса, жаренного на оливковом масле, между двумя ломтями хлеба был всего только кусок сыру.
Никогда еще путь до мастерской не казался ему таким долгим. Что поделаешь, он старел. В сорок лет, хоть ты еще не одряб и, как виноградная лоза, гнешься, да не ломаешься, мускулы уже не те. Иногда, читая спортивные отчеты, в которых тридцатилетнего спортсмена называли ветераном, он пожимал плечами. «Если это ветеран, – говорил он Фернанде, – то мне пора в богадельню». Однако он знал, что журналист не совсем не прав. В тридцать человек уже неприметно сдает. В сорок, конечно, еще не время уходить на покой, но к мысли об этом мало-помалу начинаешь загодя привыкать. Не потому ли он давно уже не смотрел на море, когда ехал на другой конец города, где находилась бочарня. Когда ему было двадцать лет, он не мог наглядеться на море: оно обещало ему счастливые часы на пляже в субботу и в воскресенье. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно из-за нее он всегда любил плавать. Но прошли годы, он женился на Фернанде, родился мальчонка, и, чтобы сводить концы с концами, пришлось по субботам оставаться на сверхурочные в бочарне, а по воскресеньям халтурить на стороне. Мало-помалу он отвык утолять в эти дни буйство крови. Глубокая и прозрачная вода, горячее солнце, девушки, жизнь тела – другого счастья не знали в их краю. А это счастье проходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только на исходе дня, когда вода в бухте слегка темнела. В этот час приятно было сидеть на террасе дома в свежей рубашке, которую Фернанда умела так хорошо погладить, перед запотевшим стаканом анисовки. Вечерело, небо перед закатом окрашивалось в нежные тона, и соседи, разговаривавшие с Иваром, почему-то вдруг понижали голос. В такие минуты Ивар не знал, то ли он счастлив, то ли ему хочется плакать. Во всяком случае, на него находило какое-то умиротворенное настроение, и ему оставалось только тихо ждать, он и сам не знал чего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу