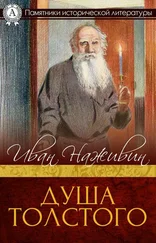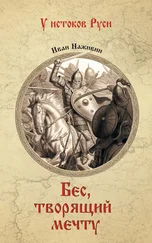Но потом, подумав, что этот выпад против батюшек может, пожалуй, быть худо истолкован людьми, стоящими у кормила государственного корабля, он последнюю страницу заключил до времени в скобки сомнения…
И так, чрезвычайно озабоченный обращением Кавказа в истинную веру, вчерашний вольтерьянец, сопровождая армию, неожиданно наткнулся под крепостью Гергеры на арбу, которую два вола с усилием подымали по крутой и размытой дороге. Несколько вооруженных грузин сопровождали ее.
– Откуда это вы? – с коня спросил их Пушкин.
– Из Тэгэрана, – с характерными кавказскими интонациями отвечали те.
– Что вы это везете?
– Грибоэда…
Пушкин уже слышал о страшной смерти своего друга, но эта неожиданная встреча с его телом потрясла поэта. Против «Грибоеда» в Тегеране работало много заинтересованных лиц, а в особенности агентов турецкого султана, который все еще надеялся втянуть шаха в общую войну с победоносной Россией. Но едва ли не больше турецких агентов разжигали ненависть персов чины российского посольства, которые по своей привычке вели жизнь весьма распоясанную. Так или иначе, но огонь разгорался все более и более. Народ, наконец, взбунтовался, осадил русское посольство, перебил всех его служащих и целых три дня волочил по улицам труп несчастного «Грибоеда». Султан был в восторге: теперь помощь Персии ему обеспечена. Но он ошибся: в Петербург уже выехало чрезвычайное и весьма пышное персидское посольство с извинениями и султан вынужден был просить мира. Петербург был доволен: война уже стоила России более 200 000 человек и в Адрианополь вместо армии пришло уже только 25 000 голодных оборванцев…
Озабоченный государственными соображениями, Пушкин пожелал в своих записях, чтобы кто-нибудь написал биографию Грибоедова, но тут же и сам усомнился в исполнимости такого пожелания: «Мы ленивы и не любопытны», – значительно сказал он. И, когда Паскевич взял Эрзерум, – больше, по-видимому, золотом, чем штыком, – Пушкин осмотрел его гаремы и, прокляв его нечистые бани, поскакал обратно. Поболтавшись и поиграв «на кислых водах», Пушкин поехал дальше и во Владикавказе встретил Михаила Пущина и Дорохова, лечившихся от ран, полученных на войне.
– А это что у тебя?! – воскликнул Пушкин, завидев у приятелей на столе целую кучу журналов.
Он сейчас же схватился за них и сразу налетел на ругательную критику на себя. И он стал вслух читать ее, и все хохотали.
На этом и кончилась поездка по всей России в Эрзерум…
XIII. Любимая фрейлина его величества
В Москве, едва переодевшись, дождливым и холодным утром Пушкин полетел к Гончаровым. Но и Наталья Ивановна, и Наташа встретили его более чем хладнокровно: обе больше боялись ветреного «сочинителя», чем желали вязать свою жизнь с его. В довершение всего из Петербурга пришел от Бенкендорфа строжайший нагоняй за самовольную поездку на Кавказ и Пушкин, как мальчишка, должен был вывертываться и извиняться. И снова он стал вертеться вокруг дам, кутил во всю головушку с Нащокиным, – Соболевский все был за границей, – играл, потом схватился и понесся в Петербург, но по пути заехал в Тверскую губернию, к родственникам Вульфов, повидать разных красавиц и сейчас же донес Алексею Вульф о тамошних делах в выражениях, которые лучше оставить в стороне. Он прибыл в Петербург, проиграл 20 000, и все заметили, что он стал еще циничнее, чем прежде. Все это было, конечно, мало государственно, но на всяк час не упасешься!
Он увязался за хорошенькой Россетт. Он давно обстреливал ее льстивыми стихотворениями, – лучший способ для ловли чижей, – в которых величал ее «придворных витязей грозой» и всякими другими прекрасными эпитетами, но она не давалась: несмотря на свою южную красоту, она была сдержанного темперамента. Да и вообще у нее как-то не было вкуса к авантюрам, – разве только на словах: у нее был эдакий особый портфельчик, в который она бережно складывала все, как любовные, так и скабрезные письма к ней ее поклонников, начиная с Соболевского и кончая его величеством. Большая часть писем для чтения молодым девицам решительно не годилась, а некоторые так и никому вслух читать было нельзя…
Ее семья издавна жила в теснейшей связи с русским двором. Александр и был ее заочным крестным отцом, а Марья Федоровна крестной матерью, но действительным воспреемником ее от купели был друг ее отца, герцог Ришелье. Александр I и скончался в доме ее отчима, генерала Арнольди. На выпускном экзамене в Екатерининском институте она декламировала стихи Пушкина «Бахчисарайский фонтан», а потом прошла зачем-то курс русской словесности с П.А. Плетневым, подружилась с Жуковским, бывала у Карамзиных и все более и более входила в моду в кругах литературных. Жуковский получил от нее кличку бычок, а он величал ее то небесным дьяволенком, то девушкой-чернавушкой, то всегдашней принцессой своего сердца. Но больше всего звали ее донна Соль, по Гюго, из Эрнани. И какой-то острослов даже сочинил в честь ее стихи:
Читать дальше
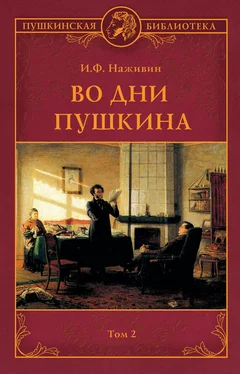
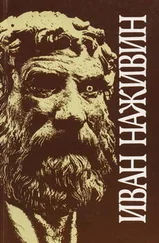
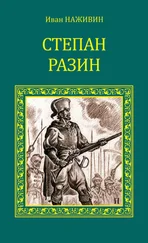
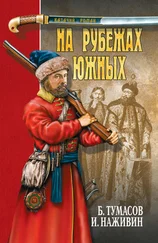
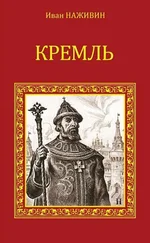
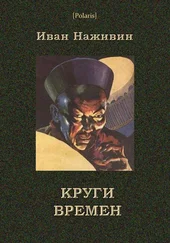
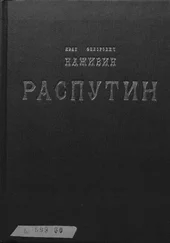
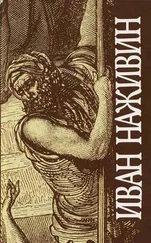
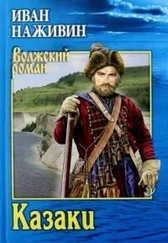
![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)