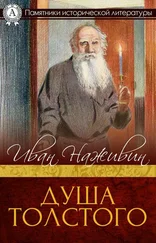Пушкин быстро прикинул, что надо немедленно уничтожить, – у него, как всегда, было немало злых эпиграмм на царя и на высокопоставленных лиц, а иногда кое-что остренькое и по духовной части, – но, встревоженный, сообразить не мог и прямо с постели бросился к окну. Стекла были заплетены прелестными искристыми узорами мороза, напоминающими пышные папоротники. С помощью дыхания и ног-тей он проделал в узорах чистое местечко и, замирая, приник глазом к дырочке. И сразу увидел знакомую и милую картину: белый глубокий сон зимы, темные леса и едва заметные под снегом извивы красавицы Сороти… А колокольчик бурно нарастал. Сердце билось все тревожнее. И вдруг в растворенные ворота ворвалась в снежных вихрях тройка гусем. Он не мог рассмотреть, кто сидит в санях, но сразу увидел только одно: не фельдъегерь. От сердца отлегло. Но кто же это?.. Он вгляделся в приближающийся возок, вдруг ахнул и так, как был, в одной рубашке, вылетел на крыльцо.
Разгоревшиеся лошади пронесли мимо крыльца и стали только в глубоком сугробе. Из обындевевшего возка уже вылезал в тяжелой медвежьей шубе Иван Иванович Пущин, закадычный друг Пушкина еще по лицею. И оба тут же, на крыльце, один полуголый, босиком, а другой в мохнатой промерзшей шубе, бросились один к другому в объятия. И Пущин потащил друга в дом.
– Простудишься, француз!.. [3] Лицейское прозвище Пушкина.
– говорил Пущин. – Иди в тепло скорее…
– Ничего, ничего… – хохотал Пушкин. – Но как же я рад тебе, Jeannot!.. Как благодарен!.. Ведь приятели боятся навещать меня, опального…
– И дядя твой, Василий Львович, и Александр Тургенев очень предостерегали меня от этой опасной поездки… – пролезая в двери, говорил Пущин. – И еще как удерживали!..
– Ах, подлецы!.. – раскатился тот опять своим заразительным хохотом.
И в передней они опять горячо обнялись. Алексей, слуга Пущина, дождавшись своей очереди, тоже бросился обнимать поэта: он был хорошо грамотен и много стихов Пушкина знал наизусть. Яким Архипов с ямщиком вносили вещи и никак не могли сдержать улыбки при виде полуголого барина. Из внутренних дверей выглянули было девичьи лица, но, увидев своего барина в не совсем обычном виде, прыснули и, давясь смехом, унеслись в девичью. А в переднюю выплыла Арина Родионовна, приземистая, полная, кубышечкой, старуха с добродушным лицом, в темном платье и повойнике с рожками. Пущин бросился обнимать ее: он догадался, что это та самая няня, о которой он столько слышал от поэта. И, качая с улыбкой седой головой, старуха проговорила:
– Ишь, бесстыдник, как гостей-то встречает!.. Иди хошь накинь что-нибудь, а то простынешь…
Она и теперь иногда видела в Пушкине того кудрявого мальчугана, которого она вырастила и который сперва поражал всех своей неподвижностью и вялостью, а потом вдруг загорелся, точно ракета – на всю жизнь. «Ну, точно вот его подменили!.. – не раз с недоумением говаривала старуха. – Такой неуимчивый…»
Пущина освободили от его тяжелой шубы. Пушкин со смехом утащил его в свою комнату, и оба, засыпая один другого вопросами, стали приводить себя в порядок. Они не видались много лет.
– Ну, пожалуйте кофий пить… – проговорила няня, появляясь в дверях. – И пирожков горячих сичас подадут… Милости просим, гостек дорогой…
Пущину был мил ее своеобразный «скопской» говорок и весь ее уютный, домовитый вид.
– Идем, идем, нянюшка… Сейчас… – отозвался он.
И под руку, теснясь в дверях и улыбаясь, они пошли завтракать. Няня, довольная, покачивалась сзади. В столовой было холодно, но в большой изразцовой печи уже урчали, похлопывая заслонкой, березовые дрова, и так вкусно пахло кофе и горячими пирожками, которые румянились на большом блюде под расшитым полотенцем. Пушкин усадил гостя в большое, в цветах, кресло, а сам сел против него. Арина Родионовна обстоятельно разлила им кофе, пододвинула к гостю пирожки, и, не спуская один с другого ласковых, смеющихся глаз, они принялись за завтрак и с полными ртами обменивались новостями…
Трудно было придумать двух людей, менее похожих друг на друга, чем Пушкин и Пущин, как в физическом, так и в духовном смысле. Пущин быль только на год старше Пушкина – ему было двадцать семь – и оба они казались старше своих лет, но в то время как Пушкин, дурачась, часто спускался до простого мальчишества, Пущин, спокойный и ровный, всегда держался на своем уровне. Сын сенатора и небогатого помещика, Пущин по мере сил старался служить добру, родине и людям вообще, но у него были две слабости: женщины и иногда, с приятелями, бокал шампанского. Приятели звали этого тихого эпикурейца «хорошим язычником». Оставив службу в гвардейской конной артиллерии, – внешним поводом к выходу в отставку послужило столкновение с великим князем Михаилом Павловичем, который в Зимнем дворце на выходе сделал ему замечание за не по форме повязанный темляк, – он решил поступить на службу простым квартальным, чтобы доказать тем, что всякая служба государству полезна и почетна. Сестры на коленях умоляли его не делать этого, и честный Жанно, наконец, уступил. Теперь он служил судьей московского надворного суда: он думал, что если в бесправной России одним честным судьей будет больше, то это будет хорошо. И он был членом сперва тайного Союза Благоденствия, а когда тот прекратил свое существование, он стал во главе московского отдела Северного Общества, – которое тоже ставило себе целью усовершенствование отсталой русской жизни. Пушкин, наоборот, с необычайной легкостью и горячностью с одной точки зрения на жизнь переносился на другую, часто противоположную, и без малейшего усилия начинал горячо веровать в ее истинность – до новой и, может быть, совсем недалекой перемены.
Читать дальше
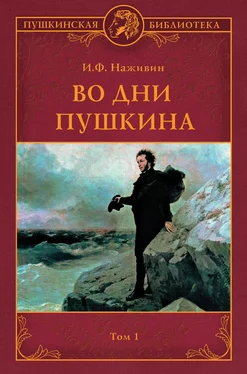
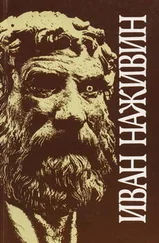
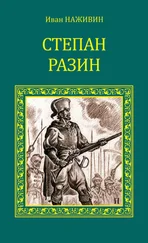
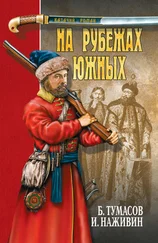
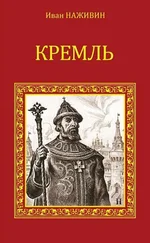
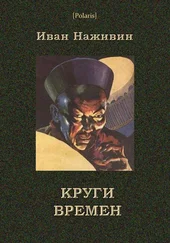

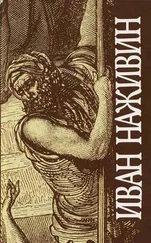

![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)