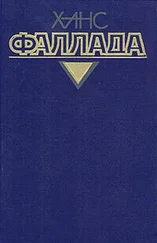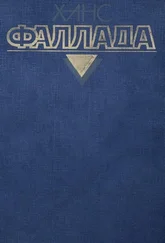Как часто он говорил жене:
– Терпение! Будет и на нашей улице праздник! Но когда это произойдет, я ничего не забуду, никого не прощу, никакого великодушия они от меня не дождутся – о каком великодушии может идти речь, когда перед тобой ядовитая змея?!
И он живо воображал, как выселит из квартиры школьного учителя с его женушкой, как будет тягать их на допросы, всячески изводить и в конце концов накажет по заслугам – этих негодяев, которые без зазрения совести подбивали детей семи-восьми лет доносить на собственных родителей: «А где у твоего папы висит портрет фюрера? А что мама говорит папе, когда приходят собирать «зимнюю помощь»? [2] Сбор добровольно-принудительных пожертвований в пользу бедных.
Как папа здоровается по утрам – «доброе утро» или «хайль Гитлер»? А по радио не говорят иногда на языке, которого ты не понимаешь?»
О да, ненависть к этому педагогу, который семилетним детям показывал фотографии изуродованных трупов – эта ненависть, казалось, надолго укоренилась в его душе.
А теперь все тот же самый Долль сделался бургомистром, и возмездие, о котором он так любил поговорить, которое в красках себе рисовал, подпитывая ненасытную ненависть, стало в некотором роде его обязанностью. Он должен был в числе прочего разбираться, кто из нацистов – безвредные попутчики, а кто – деятельные преступники, выкуривать их из логовищ, куда они впопыхах позаползали, смещать их с влиятельных должностей, которых они добивались с прежней ловкостью и бесстыдством, отбирать у них все, что они неправедно наживали, крали, вымогали, конфисковывать продовольствие, которое они по-хомячьи тащили в свои норы, заселять в их просторные квартиры оставшихся без крова – все это теперь стало его долгом. Хотя настоящие «фюреры», главные виновники, давно удрали на запад, но и с мелкими сошками иметь дело – удовольствие ниже среднего. Они уверяли всех и каждого – с праведным негодованием, а то и со слезами на глазах, – что вступили в партию под давлением или из финансовых соображений. Все они готовы были подтвердить свои показания под присягой – дай им волю, они бы и на Библии поклялись. Среди двух-трех сотен местных национал-социалистов не нашлось ни одного, кто вступил бы в партию по «внутреннему убеждению».
– Строчите, строчите ваши отречения, – нетерпеливо говорил Долль. – Это ничего не изменит, но если вам так приятнее… Мы в этом кабинете давно уже поняли, что в мире было всего-навсего три национал-социалиста: Гитлер, Геринг и Геббельс! Подписали? Следующий!
Потом с парой полицейских (среди которых на начальных порах попадались весьма сомнительные личности) и протоколистом бургомистр Долль обходил дома и квартиры этих национал-социалистов. В шкафах у них обнаруживались горы белья – в том числе и почти нового, в то время как в мансарде эвакуированная из Берлина мать, у которой разбомбили дом, не знала, во что одеть детей. В сараях до потолка высились штабеля дров и угля, но на двери висел крепкий замок, чтобы ни щепочки не перепало тем, кому не на чем даже сварить суп. В погребах у этих коричневых скупердяев стояли мешки с зерном («Это для курочек!»), с ячменем («Выдали для поросенка, вот ордер!»), с мукой («Да это же не настоящая мука, это мы мельничную пыль смели!») В кладовках полки ломились от припасов, но на каждую банку у них была заготовлена ложь. Они тряслись за свою бесценную жизнь, но этот страх пересиливало желание защитить свои сокровища: все-де получено по закону! Они шли до самой машины, которая увозила их хомячьи богатства, и угрожать не смели, но на лицах было написано праведное возмущение творящимся беззаконием.
Во время подобных рейдов Долль всегда имел суровый, даже злой вид, но ощущал лишь отвращение и усталость. Он всегда был одиночкой, он даже в браке свято оберегал свое право на уединение – а теперь ему приходилось целые дни проводить среди людей, говорить с ними, принуждать их к чему-то, видеть слезы, слышать всхлипы, протесты, жалобы, просьбы… Под вечер голова превращалась в рокочущую бездну.
Иногда мелькала мысль: куда подевалась ненависть? Вот же они, те самые нацисты: это им я мечтал отомстить, это их злодеяния я клялся не забывать и не прощать. А я стою и не чувствую ничего, кроме омерзения, и больше всего мечтаю оказаться в кровати, и спать, спать, спать, забыться сном – и не возиться больше во всей этой грязи!
Но он был так перегружен работой, что времени на себя у него не оставалось. Ни одну мысль он не мог додумать до конца – голова постоянно была занята другим. Иногда у него возникало смутное чувство, что однажды он просто иссякнет и останется от него лишь полый скелет, обтянутый кожей. Но думать об этом у него тоже не хватало времени, и он не знал: то ли его ненависть к нацистам правда затухла, то ли он слишком устал, чтобы испытывать хоть какие-то живые чувства. Он больше не был человеком, только бургомистром – исправно работающей машиной.
Читать дальше