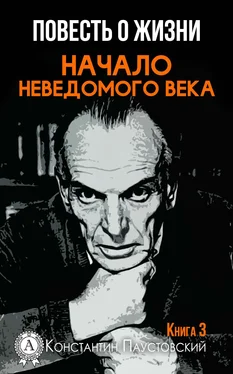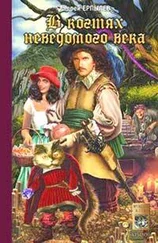Сейчас, спустя много лет, возвращаясь памятью к первым месяцам революции, начинаешь отчетливо понимать, что то время было наполнено сознанием непрочности происходившего и ожиданием неумолимых перемен.
Старый строй был разрушен. Но в глубине души почти никто не думал, что новый февральский строй – это завершение революции. Он был, конечно, только перевальным этапом в истории России.
Возможно, что это понимали и тогдашние мимолетные руководители страны. Это ослабляло их сопротивление тому новому, враждебному для них, но неизбежному, что впервые прозвучало в словах Ленина с броневика у Финляндского вокзала: «Заря всемирной социалистической революции уже занялась!»
Все без труда достигнутое и наспех сколоченное после февраля было, оказывается, самым ранним началом новых времен.
Это стало ясным для всех значительно позже. Тогда же это только смутно чувствовалось. Слишком было напряженное время, слишком много феерических событий совершалось каждый день. Не хватало ни душевных сил, ни времени, чтобы как следует разобраться в молниеносном полете истории. Грохот обвалов старого времени сливался в сплошной гул.
Идиллическое благодушие первых дней революции меркло. Трещали и рушились миры.
В большинстве своем интеллигенция растерялась – великая, гуманная русская интеллигенция, детище Пушкина и Герцена, Толстого и Чехова. С непреложностью выяснилось, что она умела создавать высокие духовные ценности, но была за редкими исключениями беспомощна в деле создания государственности.
Русская культура выросла главным образом в борьбе за свободу с самодержавным строем. В этой борьбе оттачивалась мысль, воспитывались высокие чувства и гражданское мужество.
Старый строй рухнул. Вместо того чтобы сеять в народе хрестоматийное «разумное, доброе, вечное», надо было немедленно своими руками создать новые формы жизни, надо было умело управлять вконец запущенной и необъятной страной.
Смутное, почти нереальное состояние страны не могло длиться долго. Жизнь народа требовала ясности цели, точного приложения труда. Оказалось, что утверждение справедливости и свободы требует черной работы и даже жестокости. Оказалось, что эти вещи не рождаются сами под звон кимвалов и восхищенные клики сограждан.
Таковы были первые уроки революции. Такова была первая встреча русской интеллигенции лицом к лицу с ее идеалами.
Это была горькая чаша. Она не миновала никого. Сильные духом выпили ее и остались с народом, слабые – или выродились, или погибли.
Так входила страна в грозную и длительную эпоху создания новой гражданственности. Но, повторяю, в то время все эти мысли не были еще до конца понятны всем. Они существовали в зачатке, почти как ощущение. Множество людей плыло по воле событий с одним только желанием прожить подольше, чтобы увидеть, как обернется история и к какому берегу прибьет наконец Россию.
* * *
Что касается меня, то я встретил Февральскую революцию с мальчишеским восторгом, хотя мне было уже двадцать пять лет. Мне наивно верилось, что эта революция может внезапно переменить всех людей к лучшему и объединить непримиримых врагов. Мне казалось, что человеку не так уж трудно ради бесспорных ценностей революции отказаться от пережитков прошлого, от всяческой скверны и прежде всего от жажды обогащения, национальной вражды и угнетения себе подобных.
Я был всегда уверен, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли и все дело лишь в том, чтобы вызвать их из глубины его существа.
Но скоро я убедился, что эти прекраснодушные настроения – наполовину дым и тлен. Каждый день швырял мне в лицо жестокие доказательства того, что человек не так просто меняется и революция пока что не уничтожила ни ненависти, ни взаимного недоверия.
Я гнал от себя эту неприятную мысль, но она не уходила и омрачала мою радость. Все чаще вспыхивал гнев. Особенно сильно я начал ненавидеть приглаженных и либеральных интеллигентов, стремительно и явно поглупевших, по моему мнению, от недоброжелательства к своему, недавно еще умилявшему их, народу. Но это еще не значило, что я целиком принимал в то время революцию Октябрьскую. Многое я принимал, иное отвергал, особенно все, что казалось мне пренебрежением к прошлой культуре.
Принять Октябрь целиком мне мешало мое идеалистическое воспитание. Поэтому первые два-три года Октябрьской революции я прожил не как ее участник, а как глубоко заинтересованный свидетель.
Читать дальше