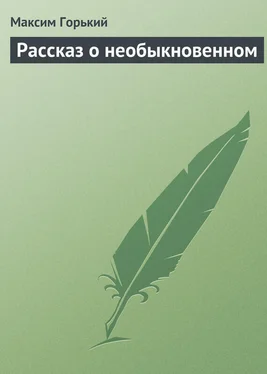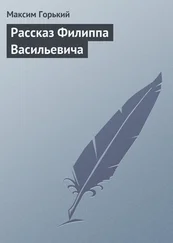Конечно, вера – глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.
Валялось в камере, кроме меня, ещё семеро, – четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик – высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснётся раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив её водою, расчешет голову, бороду, застегнётся весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось – умный сектант!
Слесарь – чёрный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят, усики чернеют. Глаза – как у киргиза. Лощёный весь и на тюленя похож, на учёного, каких в цирке показывают. Свистеть любил.
Вот, однова, когда воры заснули, слышу я – старик ворчит:
– Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и давят. Упрощение жизни надо сделать.
Слесарь – досадует, бормочет:
– И я про то же говорю.
– Врёшь. Ты – вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты – особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут – горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одёже, все различия между людей. Это всё надо – прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть – там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот – пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.
Слышу я – правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на всё отвечает, у неё естество густое, её хоть руками бери.
Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так – спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я – слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: всё на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное – уничтожить, никаких отличий ни в чём не допускать, тогда все люди между собой – хотят, не хотят – поравняются и всё станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, – попов, купцов, чиновников и вообще господ, – запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.
– Душу окрылить надо, – доказывал старик. – Главное – свобода души, без этого нет человека!
Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:
«Господи Исусе, какая простота святая живёт между людьми, а они всю жизнь маются!»
Думаю и даже улыбаюсь, а воры ещё больше смеются надо мной.
– Глядите, Язёв о невесте думает!
Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, всё слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время бог ещё был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.
Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:
– Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится.
Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:
– Иди, иди, Яков, ищи своё счастье.
Конечно, я рассказал ей всё, до чего дошёл, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:
– Всё – верно. Так и надо.
Я – ей:
– Шла бы ты со мной, Любаша!
Забоялась:
– Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.
Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе её я себя видел, как в зеркале. Прощалась – заплакала однако…
Читать дальше