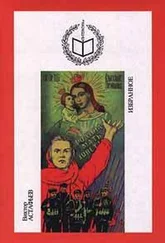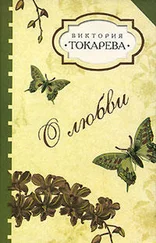Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом лопаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит вяло раскачивающуюся птицу, Василий несет ребенка. В поселке почти нет огней и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха да в окне конторы снуло горит лампешка – должно быть, нарядчик засиделся.
Дом, еще пахнущий смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых посадов и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за нею входят еще две живые души, и думает с тревогой – окажись она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно.
Но ей пришлось входить в этот дом одной много раз и жить в нем одиноко много лет.
Началась война.
Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом.
На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви, все время натыкалась взглядом на плечо, где не было ружья.
Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут!
Ну война – эко дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, – и домой.
Василий дурачился, нажимал жестким, залиселым от курева пальцем нос жены, говорил шутливо: «Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!» Она колотила его по рукам: «У-у, дурной!»
И лишь когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом к Василию.
А между ними уже вода…
В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать пайка, и Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки передвинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи.
Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу.
Ее Василий не мог пропасть без вести!
Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью даже во сне сторожко ждала шагов, твердых, громких, какие могут быть у хозяина.
Кончилась война.
Выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка.
Хозяин вечен.
Хозяин должен остаться при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял – насовсем, – остановил мать, заголосившую было над ним: «Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты – женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь…»
«Обиходишь и снарядишь…»
Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?
Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уже отмечает: «Вот Вася мой тоже…» Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие, наоборот, двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, – и протяжно вздохнет: «Где-то и Вася там бедовал». И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем.
Ее Вася был на всем фронте. Нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми.
Но иной раз ее захлестывала такая тоска, беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, ночи нескончаемо длинными.
Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку? Аркашкиных детей – ее внуков и правнуков?
Ей часто снился один и тот же сон: поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдется сердце, застонет Фаина не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябыми лицами вниз, стрижеными шершавыми затылками кверху.
Читать дальше