– Я говорю, ваше превосходительство, что поскольку ваш сын не дошел…
– Погодите… Не разбираю… Кто не дошел?
Гость с удивлением взглянул на стену, отделявшую кабинет директора от моего класса, и смолк. Из-за стены, оказавшейся довольно тонкой перегородкой, доносился какой-то рев, смешанный с топотом ног, сопровождаемый отдельными дикими выкриками. Растерявшийся Юнгмейстер вскочил с места и, догадавшись, что у меня происходят практические занятия, хотел было броситься к стене и постучать в нее кулаком. Но, сообразив, что подобное приглашение к порядку не совместимо с достоинством средне-учебного заведения, воздержался от этого, и весь красный, с дрожавшими от гнева руками, стал у стены, как бы стараясь заслонить ее от встревоженного гостя.
– Вообще, ваше превосходительство… – бессвязно забормотал он, – бывают случаи… когда функции семьи и школы… впадают в коллизию… Нет, это черт знает, что! Я не могу больше!
– А, да, понимаю: вы говорите – большая перемена началась?
– Не перемена, а урок психологии! – с отчаянием выкрикнул Юнгмейстер. – Простите, сейчас вернусь!.. На минутку!
Он выбежал из кабинета и ринулся ко мне в класс. Наш опыт с объемом внимания уже кончался. Расцепив свои руки и ноги, ученики по одиночке выползали из общей груды, с удовлетворенным рычанием поднимались с пола и расходились по местам.
– Что здесь такое? – яростно накинулся директор на меня. – Это так вы преподаете? Эта у вас называется лекцией? Я не могу в своем кабинете работать! Я не могу принять посетителя!
Сообразив, что делать при учениках подобный грубый выговор преподавателю недопустимо, Юнгмейстер отвернулся от меня, набросился на притихших учеников и несколько минуть отчитывал их, грозя оставлением после уроков, общим снижением четвертной отметки за поведение. A затем, вспомнив, что его ждет в кабинете его превосходительство, внезапно исчез.
Нечего говорить, как был я оскорблен подобным обращением со мною. Я столько души и труда вложил в преподавание своего предмета. Я столько свежей струи влил в затхлую систему обучения. Так много принес тем, кто в науке искал света и правды…
Разумеется, в тот же день отправил я Юнгмейстеру письмо с просьбой не считать меня больше в числе его преподавателей.
И моя педагогическая деятельность закончилась.
Освободившись от преподавания в гимназии, начал я усиленно готовиться к магистрантскому экзамену, чтобы получить право на доцентуру по кафедре философии.
И – странное дело. Чем больше углублялся я в свой предмет, тем больше сомнений возникало у меня относительно его ценности. Конечно, в истории человеческой мысли были величавые философские системы, начиная с Платона и кончая Гегелем. Как прекрасно, например, учение Платона об идеях, с его художественным критерием познания!
Как убедительна дедукция Декарта, выводящая из основных положений всю концепцию мира. Как математически заманчив геометрический метод Спинозы, у которого и Бог и вселенная укладываются в простые теоремы. И эмпиристы хороши, начиная с Бэкона и кончая Миллем: читая их, убеждаешься, что вовсе не французская дедукция, a английская индукция постигает сущность мира. А относительно учения Канта и говорить нечего. Кант, действительно захватывает своей убедительностью в его своеобразном примирении дедукции с индукцией, опыта с априорностью, теоретического знания с верой.
Все это в отдельности превосходно, интересно, как будто неопровержимо. А когда соберешь все вместе и начнешь сопоставлять… Что получается, в конце концов?
Кто из этих великих мыслителей прав? И кто достиг действительной истины? Ведь этой истины на противоречивых системах не построишь. Следовательно, история философии в своей совокупности никакого определенного ответа дать не может. А если это в состоянии сделать только какой-нибудь отдельный мыслитель, то кто же он, проникший в великую тайну? Платон? Декарт? Кант? Но если, в самом деле, это кто-то из них, то он не просто мыслитель, профессор, или автор многотомных трудов, a поистине бог, принесший человечеству откровение, сверкающее вечной ослепляющей правдой!
Углублялся я, изучал, приходил в смущение, иногда испытывал от напряжения мысли головокружения, иногда доходил до метафизического страха перед бесконечностью, вечностью… И, о ужас! Меня снова потянуло к газете.
Вот, где все ясно, реально, хотя большей частью ничтожно и мелко.
Читать дальше

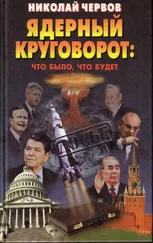
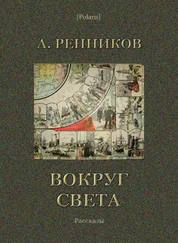




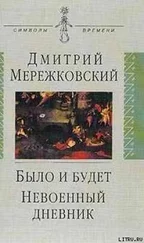

![Андрей Ренников - Зеленые дьяволы [Ѣ]](/books/404480/andrej-rennikov-zelenye-dyavoly-Ѣ-thumb.webp)

