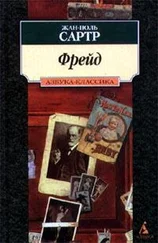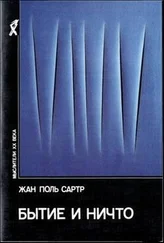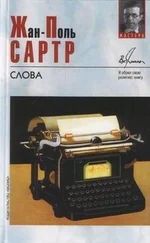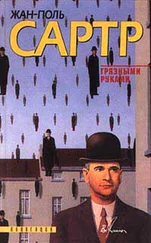– А если будет война, вы пойдете воевать?
– Я уверен, что множество эмигрантов вступят в армию, – сказал Шалом. – Но посмотрите на меня, – сказал он, показывая на свое тщедушное тело. – Какая призывная комиссия сочтет меня годным?
– Но тогда почему вы не оставите нас в покое? – прогремел Бирненшатц. – Почему вы не оставите нас в покое? Зачем вы обливаете нас грязью у нас же дома? Я – француз, я не немецкий еврей, плевать мне на немецких евреев. Затевайте свою войну где-нибудь в другом месте!
Шалом с минуту в оцепенении смотрел на него, затем вновь обрел подобострастную улыбку, вытянул руку, схватил портфель и попятился к двери. Бирненшатц вынул бумажник из кармана:
– Подождите.
Шалом уже дошел до двери.
– Мне ничего не нужно, – сказал он. – Иногда я прошу вспомоществования для евреев. Но вы правы: вы не еврей, я ошибся адресом.
Он вышел, и Бирненшатц долго неподвижно смотрел на дверь. Это человек жестокий, человек – хищник, у них есть счастливая звезда, и им все удается. Но война приходит от них; смерть и страдание тоже от них. Они пламя и пожар, они приносят зло, он мне принес зло, я его ношу, как горящий уголек под веками, как занозу в сердце. «Вот что она обо мне думает». Ему не нужно было ее об этом спрашивать, он знал ее, если б он мог проникнуть в эту темноволосую курчавую голову, он в любой момент нашел бы там эту упорную и неумолимую мысль, по-своему она упряма и никогда ничего не забывает. Он перегнулся в пижаме над площадью Желю, еще прохладно, небо бледно-голубое, серое по краям – это был час, когда вода струится по плиточному настилу, по деревянным прилавкам торговцев рыбой, пахло отъездом и утром. Утро, открытое в бескрайний простор, и там – жизнь, лишенная сомнений, маленькие округлые дымки от гранат на потрескавшейся земле Каталонии. Но за его спиной, за приоткрытым окном, в комнате, полной сна и ночи, угнездилась эта мертвая мысль, она подстерегает его, судит, вызывает угрызения совести. Он уедет завтра, он их поцелует на перроне, они с малышом вернутся в отель, Сара вприпрыжку спустится по величественной лестнице, думая: вот он снова уехал в Испанию. Она никогда не простит ему, что он в Испании; это обволакивало мертвой коркой его сердце. Он перегнулся над площадью Желю, чтобы оттянуть момент возвращения в комнату; ему нужны были вопли, горестное пение, яростные краткие страдания, но не эта всепоглощающая нежность. Вода струилась по площади. Вода, влажные запахи утра, рассветные деревенские крики. Под платанами площадь была скользкой, жидкой, белой и быстрой, как рыба в воде. В эту ночь пел негр, и ночь казалась тяжелой и сухой, как ночи Испании. Гомес прикрыл глаза, он почувствовал, как терпкая тяга к Испании и войне овладевала им, Сара ничего этого не понимает – ни ночи, ни утра, ни войны.
– Пам, пам! Пам, пам, пам, паи, пам! – во всю глотку заорал Пабло.
Гомес повернулся и ступил в комнату. Пабло надел каску, взял за ствол карабин и стал упражняться им, как палицей. Он бегал по комнате отеля, нанося в пустоту резкие удары и пытаясь при этом сохранить равновесие. Сара следила за ним потухшим взглядом.
– Да тут побоище? – сказал Гомес.
– Я уложу их всех! – не останавливаясь, выкрикнул Пабло.
– Кого «всех»?
Сара в халате сидела на краю кровати. Она штопала чулок.
– Всех фашистов, – сказал Пабло.
Гомес откинулся назад и захохотал:
– Убей их! Ни одного не оставляй в живых. По-моему, ты забыл вон того.
Пабло побежал туда, куда показал Гомес, и рубанул воздух карабином.
– Бац, бац! – кричал он. – Бац, бац, бац! Никакой пощады!
Он остановился и, задыхаясь, повернулся к Гомесу, серьезный и разгоряченный.
– Гомес! – сказала Сара. – Вот к чему это приводит! Как ты мог?
Гомес накануне купил Пабло игрушечный военный набор.
– Ему надо научиться сражаться, – пояснил Гомес, гладя мальчика по голове. – Иначе он будет трусом, как все французы.
Сара подняла на него глаза, и он понял, что жестоко обидел ее.
– Не понимаю, – удивилась Сара, – как можно называть людей трусами только потому, что они не хотят воевать?
– Есть моменты, когда этого нужно хотеть, – возразил Гомес.
– Никогда! – возмутилась Сара. – Ни в коем случае. Нет ничего на свете, ради чего стоило бы, чтоб я очутилась однажды на дороге рядом с моим разрушенным домом и с моим раздавленным ребенком на руках.
Гомес не ответил. Ему нечего было ответить. Сара была права. Со своей точки зрения, она была права. Но точка зрения Сары была из тех, которыми следовало из принципа пренебречь, иначе ни к чему не придешь. Сара тихо и горько засмеялась.
Читать дальше