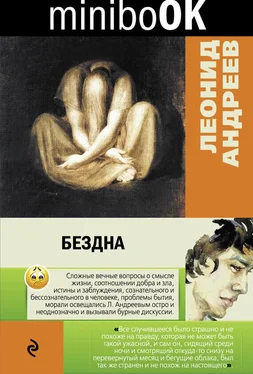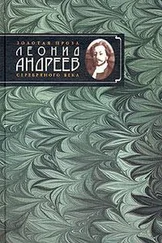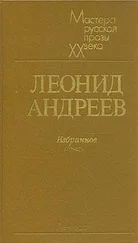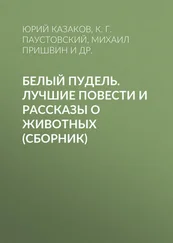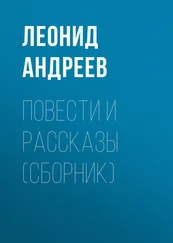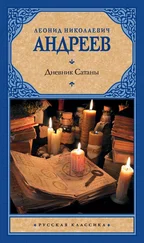Лист пятый
После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:
– Ну как, голубчик, здоровье?
Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.
Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие – научно-медицинское удостоверение моей болезни.
И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.
– Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич, – говорила Татьяна Николаевна.
Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.
– Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу, – покорно ответил я.
Мы втроем – Алексей был тут же – сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.
– Да, Антон, обязательно сходи, – авторитетно подтвердил Алексей. – А то наделаешь чего-нибудь такого.
– Но что же я могу «наделать»? – робко оправдывался я перед своим строгим другом.
– Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.
Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея и спрашивал:
– Голову? Ты говоришь – голову?
– Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.
Это становилось интересно. Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет. Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников, – какая чепуха!
– Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью, – сказал я. – Она слишком легка.
– Что ты говоришь: легка! – возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул. – Попробуй!
– Да я же знаю…
– Нет, ты возьми вот так и увидишь.
Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:
– Алексей, оставь! Алексей, оставь!
– Что ты, Таня? Что с тобой? – изумился он.
– Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки.
Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.
У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.
Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое – это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой, – вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.
Читать дальше