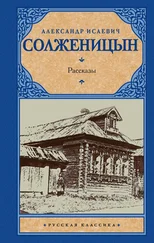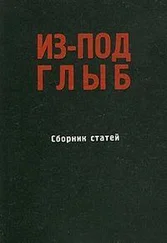Хмуро выслушали обозники. (Ничего не мог тут чекист поделать: ведь и из них половина была казаков, а такие, как Трухачёв, так ещё и похуже?) И первый раз при революционных словах трубы революции не взыграли в груди Нержина: было низко и мерзко идти обыскивать собственных хозяев-кормильцев.
Потом Таёкин стал распределять по группам, два-три человека, а председатель следил назначить каждой группе такие хаты, где б никто из них не жил. Потом и всё уже было готово – не пускали: пусть все спать лягут. И ещё: так в каждую избу тихо стучать и обращаться, чтоб соседей раньше времени не предупредить. И – пошли.
Нержину было стыдно, а напарники его и вовсе шли нехотя. Известно, что с обысками ходят по ночам – но какие-то для того особенные люди, не мы же? Пропустить, не ходить? – узнается, что в таких хатах не были. Значит, стучать в каждое оконце: поднимись, хозяева, открой, газ засвети, мы от властей. И при засвеченном газе зависимо и тревожно смотрят те же хозяева, перебуженные. Но и у кого же сердце повернётся – ворошить, властно обыскивать? Стыдно и гадко. А вот, мол, послали нас: нет ли у вас какого оружия? Оружия? да откуда? Ну, нет так и нет, и прочь. Со всего обыска по хутору принесли только пару охотничьих ружей, с тем чекист и уехал к утру.
Шли дни, при Бранте Нержину стало жить намного легче. Не только тот официально утвердил и в службу зачёл отлучки в сельсовет за телефоном и на почту за газетами, и даже Нержину проводить со взводом регулярные политзанятия, а Таёкин потускнел, потом вовсе перевёлся в другой взвод, – Брант делал Нержину и другие незаконные поблажки, освобождал от очередных ночных грабительских поездок. А по вечерам иногда звал заходить к себе на квартиру.
На постой Брант стал не в казачьей избе, а в единственной, которую, пустовавшую, сельсовет отдал двум эвакуированным еврейским семьям. В избе не было телят и овечьей одуряющей вони, но стоял нестерпимый гомон, не утихали вздоры между семьёй одесситов и семьёй гомельчан (Брант, столично брезгливо кривясь, называл вторых местечковыми); с ним, с самим младшим лейтенантом, грозой обозников, тут разговаривали совсем непочтительно, вышучивали, укоряли, что дрова кончаются, а он не шлёт из лесу новых, да и колоть заставляли самого (он звал кого из взвода), потому что он был единственным мужчиной среди дюжины обитателей этой бездворой, беззаборной, непропакленной, а внутри нераспорядливой избы. Зато из его командирского пайка Давиду Исаевичу готовили, исполу, какие-то кушанья, и ещё он напропалую флиртовал с пышной черноволосой молодой Ревеккой, чей муж где-то в армии, и, судя по многочисленным дневным шуткам, перекладывался к ней ночами. Итак, квартирой своей он был доволен и становился в ней неузнаваемо штатский и естественный.
Поздним зимним вечером, когда вьюга, беснуясь, свиристела о брёвна и меж брёвен избёнки, Брант, сидя за столом в артистической позе (не артистических он и не знал), длинноногий, не поместимый тут, длиннолицый, с большими белками крупных выразительных глаз, отодвигая какие-нибудь поджаренные сухарики и с демонической мукой пропуская длинные нежные пальцы сквозь густые чёрные волосы, открывался:
– Вы понимаете, Нержин, я привык к утончённой жизни. Я не знал, что значит сидеть дальше второго ряда партера в нашем – втором в мире по красоте, а первый где-то в Италии – одесском театре! Я не знал, как можно надеть два дня подряд один и тот же костюм. Я уж не стану упоминать, что профессор Столярский – мировая величина! – был моим хорошим знакомым{291}. И вот приходит война – и ф с ё летит к чёрту!
Он вскидывал, распяливал пальцы обеих рук, вращал белками и прорёвывал:
– Ф-фсё!!!
Разговоры с Нержиным и сводились к долгим монологам-воспоминаниям Бранта. А когда Нержин пытался вклинить и свои слова, о своей боли, Брант вскидывал величественно голову и с тем большей выразительностью, почти в агонии, дохрипывал:
– Фс-с-сё…
И во взводе и в роте все уже приуютились к безопасной жизни в тыловой глуши. Среди обозников, кто помоложе, сумели с выбором стать на постой к молодым обезмуженным казачкам, и кажется, ко взаимному удовольствию. Только на Нержина не мог снизойти покой, и никакой сладости он тут не находил, в Дурновке. Осенью он метался, что не может спасти Революцию от гибели. Теперь, зимой, он боялся, что не успеет на фронт к сокрушительному наступлению наших армий, которое, очевидно, разразится весной. Перед глазами его стоял заголовок одной из январских «Правд»: «Расколошматить немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!»{292}. Нержин знал, что не простит себе всю жизнь, если не успеет принять участие в этой войне. Редких приходивших из госпиталя на пополнение обоза фронтовиков – вид, шрамы, рассказы жгли Глеба неутихающей, не дающей сна обидой: как же глупо он вляпался в этот обоз – а его однокурсники уже на фронте, и лейтенантами. И, пользуясь единственным возможным армейским порядком, он изливал свою тоску в рапортах, подаваемых через Бранта: просил и просил начальство откомандировать его в артиллерию. Попасть на фронт и умереть – было красиво, но такими странными мечтами он не мог делиться тут ни с кем из окружающих.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)