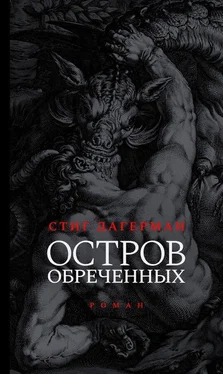На мать жалко смотреть: возможно, ей грустно оттого, что нечего бросить оголодавшим и оголтелым мартовским кошкам, спаривающимся на заднем дворе, – разве что скомканные старые письма, напоминающие о жизни в замке.
Что же сам Лука? Как уже говорилось, раны от хлыста не сильно его беспокоят, но кто знает, отчего в ночных кошмарах ему до сих пор снится парк? Отчего в банке, в рабочее время, в контурах облупившейся краски на письменном столе ему часто мерещатся очертания парка, а из щелей время от времени на него поглядывает пони? Неужели чувство вины никуда не делось, неужели оно бесконечно? Все течет и изменяется, и если сидишь на бревне, играешь на музыкальном инструменте, а под бревном лежит кто-то, кому невмоготу слушать твою музыку, то, казалось бы, чего проще: встань и откати бревно. Но если сидящий еще молод, то те, кто уже имеют большой опыт сидения на бревне, рассказывают ему, что стоит хоть чуток пошевелиться, как вся эта конструкция – разумеется, в символическом смысле – тут же рухнет. Лучше настроить инструменты и заиграть снова, да погромче, чтобы заглушить стоны, к тому же тогда этому бедняге под бревном, на котором, кстати, и держится вся конструкция, будет лучше слышно, и он получит хоть какое-то удовольствие от концерта. Можно еще чуть-чуть поковырять у него в ухе, чтобы музыке было легче проникать в его мозг, – вот оно, единственное проявление милосердия, которое можно себе позволить, не рискуя при этом собственной шкурой, а то могут и череп проломить.
Молодым да зеленым, вроде Луки, кажется, что они прикованы к бревну и стоит хоть немного пошевелиться, как весь мир угрожающе закачается, от воя музыкальных инструмен-тов и красных толстых щек трубачей тошнит и выворачивает, накатывает беспомощность и невыносимое чувство вины. Но может и повезти – тогда тебе в руки сунут блокфлейту, и вот ты уже умеешь закрывать пальцами нужные отверстия и дуть изо всех сил, и вот ты уже находишь свою винтовую лестницу в огромном здании забытья, и вот ты уже по доброй воле сидишь на этом роковом бревне и украшаешь крошечный храм символики, стоящий на твоих плечах, орнаментами собственного изобретения. Высоко под потолком, у фронтона, подвешивается чувство вины в виде дурацкого детского воспоминания из спрессованной жести. Однако с Лукой все вышло немного иначе: первое время после детских бездумных прыжков на бревне его сковывала вина – страх ходить в парк, смерть пони и дети садовника, его будто зажало в тисках. Хлыст принес ему освобождение, маленькая флейта запела в его руках, но все же недостаточно чисто, с четким обертоном страха, вины и горечи, заметным для членов семьи. Только отец успел в достаточной степени попрактиковать свои цирковые забавы и изгнать остатки непослушания из тела мальчика, как наступил крах, бревно медленно перевернулось, и теперь уже под ним оказались они сами, в ужасе хватая ртом воздух. И что, неужели теперь, когда обет молчания нарушен, Лука обратился против тех, кто втаптывал его в грязь? Неужели он, без вины виноватый, теперь стал праведником? Удивительно, но Лука как был одинок, так и остался. Новообретенные друзья, потевшие с ним в одном кабинете по десять часов в сутки, делившие с ним скромную трапезу из в спешке разогретых соевых бобов и картофеля, чтобы не дай бог не лишиться места, засиживавшиеся допоздна, чтобы успеть сделать сверхурочную работу, без которой не смогли бы внести плату за те комнаты, в которых они работали сверхурочно, если, конеч-но, не спали, чтобы снова купить себе бобов и набраться сил работать сверхурочно и дома, и в банке, – новообретенные друзья с согбенными спинами, коротко похахатывающие и распространяющие невнятный запах в меру чистых носков, не имели с ним ничего общего, кроме того, что и они попали под бревно, и теперь медленно умирали от музыки, которую играли усевшиеся на него люди.
– Дорогой друг, это все из-за атмосферного давления преходящей природы, – покровительственно говорили они Луке, когда тому хотелось что-то изменить, – смотрите, вот чудные таблетки от головной боли, вам наверняка полегчает!
Люди они были милые и дружелюбные, хоть и проявляли сочувствие в слегка вымученной манере, ведь им нужно было экономить время и силы для максимального продления рабочего дня; к тому же таблетки помогают от всех напастей. Растерянный Лука пригоршнями глотал дурно пахнущие кружочки, они застревали где-то на полпути, в горле начинало першить; сначала совсем не помогало, но через пару недель ему стало казаться, что бревно вызывает у него не больший дискомфорт, чем слишком короткие подтяжки на брюках. Так-то оно, конечно, так, но потом чувство вины вернулось, хотя абсурдно иметь чувство вины, когда ты сам уже никого не притесняешь и не угнетаешь. Неужели тот, кто лежит под бревном, несет на себе еще и бремя вины того, кто сидит сверху и играет на блокфлейте? Лука долго корпел в библиотеке над трудами по теологии, но безуспешно. В Китае в больших количествах от голода мерли китайцы, в неизвестной ему раньше стране под названием Вьелам народ, как сообщалось в местной газете, страдал под пятой каких-то бандитов – к примеру, людям с серой радужкой просто-напросто выкалывали глаза по прихоти жестокого тирана. А Лука совершенно ничего не мог с этим поделать, даже мысль о том, чтобы вмешаться, представлялась в нынешних условиях совершенно невозможной, ведь для начала нужно было где-то раздобыть денег на билет, ну или украсть их в банке – но разве это правильно? Пытаться избавиться от чувства вины в одном месте, заработав еще большее чувство вины в другом? Проклятый мир, где стоит только оторвать ногу от земли, как ты уже кого-то пнул, а стоит присесть – как уже кого-то раздавил.
Читать дальше