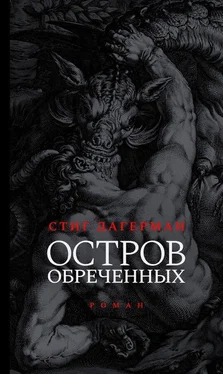Но чудище дразнило его, спокойно лежа в самом центре и едва заметно покачиваясь, будто хотело, чтобы его вид запечатлелся в памяти пленника навсегда; и тут Джимми внезапно прозрел, прозрел, словно все это время был слеп: глаза налились кровью, им овладела паника, настолько сильная, что он закричал и принялся звать на помощь. Полные отчаяния слова срывались с его губ и изо всех сил натягивали паутину, но тут же падали обратно гладкими и холодными монетами. Он так мучительно избавлялся от всех связей с другими людьми, что теперь их было уже не вернуть – теперь он навеки обречен лежать в одиночестве, распластавшись под жуткой паутиной.
Дно ямы резко ушло вниз, Джимми стал опускаться еще глубже, и паук уже казался ему крошечной виноградиной, когда паутина наконец лопнула и стала медленно падать на него. «Глубже, глубже!» – в отчаянии кричал он, и падение набирало скорость; жуткие узоры паутины отбрасывали тени на серебристо-серое устье могилы, и наконец, сделав последний жалкий рывок, Джимми сорвался вниз и, пролетев через наполненные болью годы, упал на дно, где царила слепота.
И вот он снова, после всех этих лет, проведенных в бреду, стоит на коленях у каменных стен казармы. Они жили в порту, рядом с заброшенными грузовыми судами, давно разграбленными местными жителями, – ни один кучер не осмелился бы отправиться в эти кварталы, где люди голодали так, что лошадь убили бы и растерзали при свете дня; трамвайные рельсы давно заросли травой, тощие портовые крысы расплодились и вконец обнаглели, обстрелы с моря с каждым днем длились все дольше и дольше, поэтому иногда по утрам дети брали в руки пустые корзины и послушно шли за своими матерями к казармам на вершине холма. Скрючившись и прижавшись к холодной длинной стене, они дрожали и смотрели прямо перед собой пустыми глазами, не обмениваясь ни единой улыбкой, ни единым словом, ни единым взглядом, давно оставив попытки понять, что означает весь этот безумный хохот и жуткие стоны, доносившиеся из казармы. Когда мать впервые вышла оттуда, хватаясь за стену, чтобы не упасть, он жадно выхватил у нее корзину, набитую солдатскими припасами, и крикнул:
– Они тебя били, мама?
– Нет, не били, не били, сынок! Просто гладили.
Игры у них в детстве были мрачные: с серьезным, обиженным видом они камнями перебили все окна в кабинах подъемных кранов и могли часами сидеть на хребте крана, скрючившись в одинаковых позах, и воображать, будто их город осаждают крысы. Однажды утром рядом с тем местом, где его отец-контрабандист оставлял лодку, дети обнаружили продолговатый, вертикально привязанный к столбу сверток. Словно стая чаек, они сгрудились вокруг парусинового пакета, облепили столб, робко дергали за концы красной веревки, плясали вокруг находки, как индейцы-дикари. Июльская жара свинцовым обручем сдавливала голову, и на следующий день от свертка стала исходить непонятная вонь; дети дежурили возле него на набережной, поджимая губы, словно старички, а потом подъехали патрульные на броневике, разрезали веревки, вспороли белый сверток, и на дорогу вывалился голый труп. Дети расхватали обрывки веревки на сувениры и с воплями разбежались по домам.
На кухне дома у Джимми было странно и страшно. Отец лежал на полу, притворяясь, что спит, хотя на самом деле был просто пьян; голая грудь исцарапана, на веревке над плитой сохнет рубашка. На веревке над плитой сохнет рубашка – Джимми не надо было даже смотреть на обрывок веревки, лежавший у него в кармане. Он побежал по крутому склону к казарме, все было предельно ясно, отчаянно ясно, безнадежно ясно, вот тогда и началось то самое бегство, которому никогда не настанет конец. Юность он провел с согнутой спиной, все навалилось на него разом: суровая жизнь в казарме, ненависть голодающих и презрение сытых к солдатам, когда тех выгоняли убирать улицы, – он слишком хорошо знал, как унизительно бегство. В решающие моменты вокруг его ног всегда обвивалась красная веревка, приходилось постоянно изобретать новые способы бегства, паника делала его бесхребетным и лишала силы воли, сомнительным образом построенная карьера стала лишь очередным способом бегства, и все равно он раз за разом оступался и падал в трясину воспоминаний. Зачем нужна эта жестокость, ну зачем?! Он никогда не мог этого понять. Да и как тут поймешь, когда все вокруг тоже спасаются бегством?
И тут дно снова дернулось вверх, словно пол лифта; красный паук нацелился на жертву, раскачиваясь в темноте ровно над ее лицом. Все растраченное время, все упущенные возможности, все эти годы, что Джимми оставался глухим и не слышал зова правильного действия, неумолимо приближали его к паутине. Жестокие когти, волосатое тело, все вокруг захлестнуло волной тошноты и затянуло кровавым туманом. А дальше – падать, падать, падать и, наконец, перестать быть.
Читать дальше