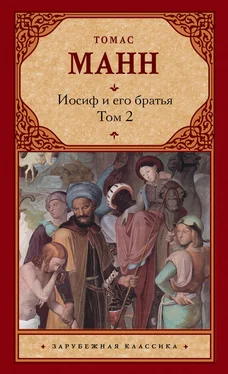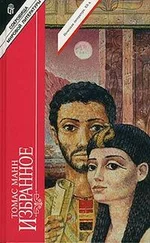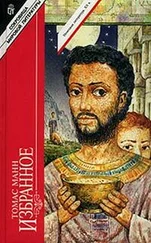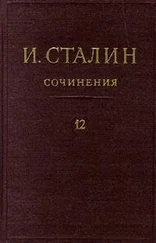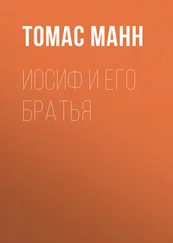Владыка венцов тоже был уже не первой молодости; лет его жизни миновало более сорока, и жизнь эта была нежна и печальна. Со смертью он тоже успел повстречаться: девяти лет умерла одна из его дочерей, вторая из шести, Макетатон, самая малокровная из всех, и Эхнатон, отец дочерей, пролил по этому поводу куда больше слез, чем его царица Нефернефруатон. Он много плакал и без всяких смертей, глаза у него были вообще на мокром месте, ибо он был одинок и несчастен, и драгоценность его существования, та нега и роскошь, в которой он жил, делала его лишь все более чувствительным к одиночеству и к тому, что он ни у кого не находил понимания. Правда, он любил говорить, что тот, кому живется трудно, должен жить хорошо. Но без слез у него не получалось сочетания того и другого; он жил слишком хорошо, чтобы при этом ему жилось еще и трудно, и поэтому он много о себе плакал. Утреннее его облачко с золотым краем, его царица, и прозрачные его дочки то и дело стирали тонким батистом слезы с его уже пожилого мальчишеского лица.
Ему доставляло радость совершать жертвоприношенья цветов в прекрасном дворе великолепного храма, построенного им в единственной столице Ахет-Атоне своему отцу в небе, кроткому другу природы, которого он представлял себе тоже обильно плачущим. Но радость этого обряда, сопровождавшегося хоровым пением гимнов, отравляло фараону его неверие в искренность царедворцев, которые при нем кормились и «учение» приняли, но, как показывала любая проверка, этого учения не понимали и не доросли до него. Никто не дорос до ученья о его бесконечно далеком, но нежно пекущемся о каждой мышке, о каждом червячке отце в небе, отце, всего лишь посредником и подобием которого был солнечный диск; отце, который нашептывал ему, «Эхнатону», любимейшему своему чаду, правду истинного своего естества; никто, он не скрывал этого от себя, по совести говоря, ничего не смыслил в его учении. Народа он чуждался и соприкосновения с ним страшился. С религиозными властями своей державы, храмами, жречеством, не только с Амуном, но и с другими древнейшими и испокон веков почитаемыми местными божествами, исключая разве только онскую солнечную обитель, он жил в безнадежной вражде и в болезненной увлеченности своим откровением не удерживался от насильственных и разрушительных мер, направленных опять-таки не только против Амуна-Ра, но и против Усира, владыки жителей Запада, и против матери Исет, против Анупа, Хнума, Тота, Сетеха, даже искусника Птаха, что усугубляло разлад между ним и его духовно косной, постоянно ратовавшей за сохранность и незыблемость древних порядков страной, внутри которой он становился замкнувшимся в царской роскоши чужаком.
Удивительно ли, что его серые, лишь наполовину открытые глаза были почти всегда красны от слез? И когда, явившись к нему по поручению Иосифа, Маи-Сахме передал ему в связи с известием о кончине Иакова ходатайство своего господина об отпуске, он тоже сразу заплакал, – проливать слезы он всегда был готов, и этого повода поплакать тоже не упустил.
– Как грустно! – сказал он. – Он умер, этот древний старик? Это удар, это депремирующий удар для Моего величества. Он, помнится, навестил меня при жизни и произвел на меня немалое впечатление. В юности он был плутом, я знаю его проделки со шкурками и с прутьями, – Мое величество готово и сегодня смеяться над этим до слез. И вот, значит, жизнь его достигла цели, и мой дядюшка, смотритель всего, что дает небо, осиротел? Как это бесконечно грустно! Он сидит и плачет, твой господин, мой Исключительный Друг? Я знаю, что слезы ему не чужды, что он легко плачет, и сердце мое потому с ним, ибо у мужчины это всегда добрый и милый признак. И когда он открылся своим братьям словами «Это я», он тоже плакал, я знаю. И он испрашивает отпуск? Отпуск в семьдесят дней? Это много для похорон отца, даже если тот и был величайшим плутом. Неужели так-таки семьдесят дней? Без него так трудно! Несколько, может быть, легче, правда, чем в годы тучных и тощих коров, но все же и в эти уравновешенные времена мне будет очень тяжело без того, кто ведает за меня царством черноты, ибо Мое величество разбирается в этом плохо, – моим делом всегда был свет горний. Ах, должной благодарности за это я не дождался, – люди гораздо признательнее тому, кто заботится о черноте, чем тому, кто возвещает им свет. Не подумай, однако, что я завидую дорогому твоему господину! Пусть будет он в странах, как фараон, до конца своих дней, ибо никакой благодарностью нельзя отблагодарить его за то, что он помог бедному Моему величеству, поскольку ему вообще можно было помочь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу