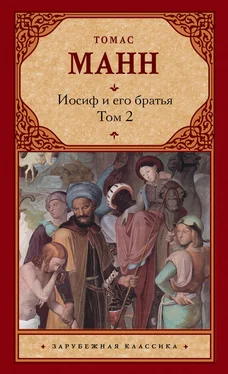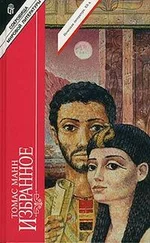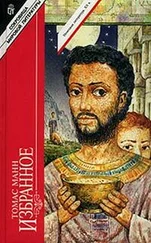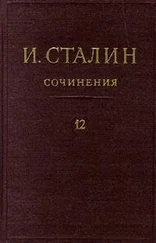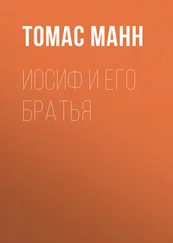«Пойду и увижу его» – это могло, конечно, при желании, означать только: «Навещу его, увижу снова лицо его, пока жив, и вернусь». Но, как всем, и в том числе самому Иакову, было ясно, слова его могли вовсе и не иметь этого смысла. Если бы речь шла только о визите свиданья ради, то скорей уж, позволим себе сказать, Его Великолепие и Его Милость Иосиф должен был бы нанести такой визит своему папочке, чтобы избавить того от немалых неудобств поездки в Мицраим. Но этому препятствовал мотив переселенья и продолженья рода, мотив, под знаком которого, как отлично понимал и сам Иаков, стояли сейчас звезды. Не затем был обособлен и отрешен Иосиф, не ради того распухло от плача по нем лицо Иакова, чтобы потом наносить друг другу визиты, а ради того, чтобы Израиль переселился к Иосифу; слишком искушенным знатоком бога был Иаков, чтобы не понимать, что похищение красавца сына, что его слава там внизу, что упорный голод, вынудивший братьев податься в Египет, что все это части дальновидного замысла, не считаться с которым было бы величайшей глупостью.
Себялюбивым и самоуверенным можно, конечно, назвать поведение Иакова, который в такой всеобщей, коснувшейся многих народов и вызвавшей подлинные экономические перевороты беде, как затяжная засуха, не увидел ничего, кроме меры, призванной направить и продвинуть историю собственного его дома, явно полагая, что, когда дело идет о нем и о его родне, остальной мир должен уж кое с чем примириться. Но себялюбие и самоуверенность – это лишь неодобрительные наименования того в высшей степени достойного одобренья и плодотворного качества, более красивое имя которому – благочестие. Есть ли на свете добродетель, не поддающаяся хулительным определеньям, не сочетающая в себе таких противоположностей, как смирение и зазнайство? Благочестие есть доверчивое отождествление мира с историей собственного «я» и его блага, и без непоколебимой до неприличия убежденности в особом и даже безраздельном внимании бога к этому «я», без превращения своего «я» и его блага в центр мирозданья – благочестия нет; напротив, таковы непременные условия этой очень сильной добродетели. Ее противоположность – неуважение к себе, равнодушие к собственному «я», равнодушие, от которого и миру ничего хорошего не приходится ждать. Кто пренебрегает собой, тот быстро опустится. Кто о себе высокого мнения, как, например, Авраам, который решил, что он, а в нем человек, должен служить лишь самому высшему, тот кажется, правда, нескромным, но его нескромность будет благословеньем для многих. В этом-то и проявляется связь личного достоинства с достоинством человечества. Притязание человеческого «я» на центральное положение в мире было предпосылкой открытия бога, и лишь одновременно, если человечество, пренебрегая собой, вконец опустится, могут быть снова утрачены оба эти открытия.
Но тут нужно добавить вот что: доверчивое отождествление не есть сужение, и высокая оценка собственного «я» вовсе не предполагает его обособленья, его изоляции, его безразличия ко всеобщему, внеличному и надличному, словом, ко всему, что выходит за пределы этого «я», но в чем оно себя торжественно узнает. Если благочестие – это сознание важности своего «я», то торжественность – это расширение своего «я», его слияние с вечно сущим, которое в нем повторяется и в котором оно себя узнает, – а такая утрата замкнутости и единичности не только не наносит ущерба его достоинству, не только совместима с этим достоинством, но и торжественно освящает его.
Вот почему в эту предотъездную пору, когда его сыновья заканчивали связанные с переселеньем дела, Иаков пребывал в весьма и весьма торжественном состоянии духа. Он собирался сейчас и вправду выполнить то, о чем мечтал во времена величайшего своего горя и о чем тогда лихорадочно твердил Елиезеру: спуститься в преисподнюю к умершему сыну. Это было событие звездное; а где «я» открывает свои границы космосу, теряется в нем, сливается с ним, – какие там могут быть обособленье и изоляция? Сама идея отъезда, ухода была полна элементов непрестанности и повторяемости, существенно ее расширявших и потому возвышавших этот миг над точечной скудостью однократности. Старик Иаков был снова юношей Иаковом, который после все исправившего беэршивского обмана подался в Нахараим. Он был тем Иаковом, который после двадцатипятилетней остановки двинулся из Харрана с женами и стадами. Но он был не только самим собой, в чьей жизни, спиралями возраста, повторялось одно и то же: отъезд, уход. Он был также Исааком, который пошел в Герар к Авимелеху, в страну филистимлян. Углубляясь в прошлое еще дальше, он видел сейчас повторение изначального ухода – ухода странника Аврама из Ура и из Халдеи, ухода, который не был, собственно, изначальным, а был лишь земным отраженьем небесного странствия, лишь земным подражаньем странствию Луны, следовавшей своим путем от одной стоянки к другой, Луны, Бел-Харрана, Владыки Дороги. И поскольку Аврам, первый земной странник, сделал остановку в Харране, то сейчас было ясно, что в роли Харрана должна выступить Беэршива, где Иаков устроит первый свой лунный привал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу