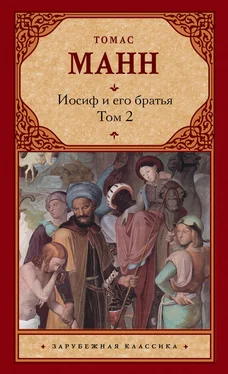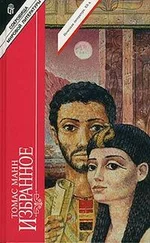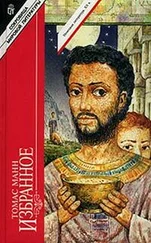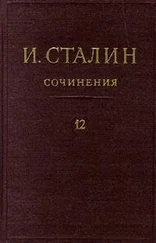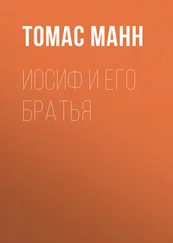В последний, правда, день они тронулись в путь рано и в пятом часу пополудни были уже близки к цели, хотя из котловины, по которой они ехали, родового их стана еще не было видно, ибо знакомые холмы скрывали его от них. Оторвавшись от своего обоза, они ехали верхом на ослах несколько впереди его, одиннадцать задумчивых всадников, которые прекратили всякие разговоры, ибо сердца их стучали и, несмотря на все принятые решения, никто толком не знал, как начать, как сказать это отцу, чтобы его не свалить. Когда они так приблизились к нему, все, что они намечали прежде, перестало им нравиться; они нашли это нелепым и непристойным, и такие штуки, как «угадай-ка!» и «кто же он?», казались им теперь отвратительно пошлыми и совершенно неуместными; каждый про себя пренебрежительно их отвергал, и некоторые пытались в последний миг придумать взамен что-нибудь новое: может быть, послать кого-то вперед, например прыткого Неффалима, чтобы он известил Иакова, что они вот-вот прибудут с Вениамином и принесут великую, невероятную весть, – невероятную отчасти в том смысле, что ей невозможно поверить, отчасти же, пожалуй, и потому, что она настолько идет вразрез со всеми привычными представлениями, что ей не хочется верить, и все-таки это живая правда господня. Так, думалось то одному, то другому, выслав вперед гонца, удобней всего подготовить к разительной новости отцовское сердце. Они ехали шагом.
Котловина, по которой шагали их ослы, была кремнистая, твердая, но ее сплошь украсила цветами весна. Усеянную валунами землю покрывала еще и мелкая галька; но везде, где только проглядывал мягкий комок, и, казалось, даже из камня необузданно била буйная зелень – цветы, куда ни глянь, белые, голубые, розовые, алые, цветы купами, пучки и подушки цветов, пестрое изобилие красоты. Весна позвала их, и они расцвели в свой час, расцвели даже без зимних дождей, довольно было, по-видимому, и утренней росы для их недолгой, быстро увядающей пышности. И кусты, торчавшие там и сям, тоже цвели белым и розовым, потому что пришло их время. Только легкие хлопья облаков копошились высоко в синеве неба.
На камне, о который, как волны о скалу, бились цветы, виднелась какая-то фигурка, сама похожая на цветок издали, хрупкая девочка, как скоро выяснилось, одна под небом, в красном платьице, с маргаритками в волосах и с цитрой в руках, по которой сновали ее тонкие, смуглые пальцы. Это была Серах, дитя Асира; отец узнал ее уже издалека, раньше, чем все другие, и, довольный, сказал:
– Это Серах сидит на камне, моя малышка, и бренчит себе на своей балалайке. Это на нее, озорницу, похоже, она любит сидеть одна и перебирать струны. Она из породы гусельников и дударей, плутовка, бог весть откуда это у нее; такая уж у нее с пеленок страсть – петь и играть, она ловко управляется с лютней, а иной раз и напевает хвалебные песни, и голосок у нее звучнее, чем можно ожидать от такой стрекозы, так что она еще, чего доброго, прославится в Израиле, сопливая. Глядите, вот она нас заметила, взмахнула руками и бежит нам навстречу. Эге-ге, Серах, это отец твой Асир возвращается с дядьями домой!
Девочка была уже близко: босыми ногами бежала она через цветы между глыбами камня, и от бега звенели серебряные кольца у нее на запястьях и на лодыжках и, подпрыгивая, сбился набок бело-желтый венок на ее черной макушке. Она, запыхавшись, смеялась от радости встречи и, не переводя дыханья, выкрикивала приветственные слова; но и в самих ее возгласах, в самой ее одышке было что-то звонкое и полнозвучное, и трудно было понять, как это получалось при таком тщедушном теле.
Она была подростком, то есть не ребенком уже, но еще не девушкой, – во всяком случае, ей было двенадцать лет. Жена Асира считалась правнучкой Измаила – не унаследовала ли Серах чего-то, что заставляло ее петь, от дикого сводного брата Исаака? Или, может быть, поскольку свойства людей преобразуются в их потомках на самые странные лады, – жадные до лакомств губы отца Асира, его влажные глаза, его любопытство и его страсть к единству мыслей и чувств превратились в маленькой Серах в ее гусельничество? Вы, пожалуй, найдете это слишком смелой натяжкой – возвести меломанию ребенка к тому, что его отец жаден до лакомств, но на что не пойдешь, чтобы объяснить такой занятный природный дар, как музыкальность Серах!
Одиннадцать братьев взглянули со своих высоконогих ослов на девочку, поздоровались с ней, погладили ее, и в глазах у них появилась задумчивость. Большинство спешилось и окружило Серах; заложив руки за спину, кивая и качая головами, они приговаривали: «Так, так», «Ну, ну», «Гляди-ка!» и «Что, певунья, ты, выходит, первая бросилась нам навстречу, потому что случайно сидела здесь и тренькала на гифифе по своему обычаю?» Наконец Дан, по прозванию змей и аспид, сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу