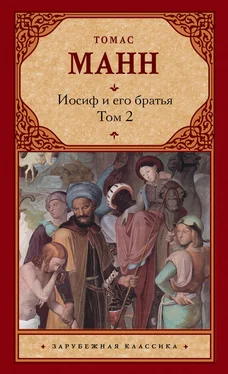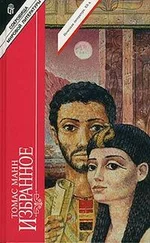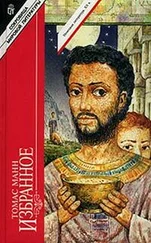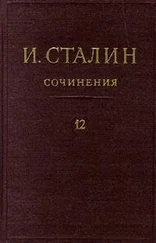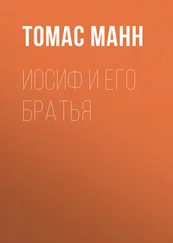«Рахиль, миловидная в готовности, та, ради кого юность моя служила Лавану, черной луне, долгих семь лет, сердце моего сердца, умершая на дороге, в одном переходе всего от пристанища, она была женою моей и подарила мне от души двух сыновей: одного при жизни и одного в смертный свой час, Думузи-Абсу, агнца, красавца Иосифа, который сумел пленить меня так, что я все ему отдал, и Бенони, сыночка смерти, который только и остался при мне. Ибо тот, первый, ушел от меня, когда я от него потребовал этого, и крик до краев наполнил вселенную: «Растерзан, растерзан красавец!» И я упал замертво, и с тех пор я как камень. Но этого я держу окаменелой рукою, он единственное, что у меня осталось, ибо растерзан, растерзан Единственный. Если же вы возьмете у меня и это единственное и на него, чего доброго, нападет кабан, то вы сведете седину мою во гроб с такой печалью, что мир не выдержит и рухнет под ее тяжестью. Он уже до краев полон немолкнущим криком: «Растерзан возлюбленный», и если не станет и этого, мир превратится в ничто».
Слышал ли господин мой этот плач флейты, эту отцовскую песнь? Ну, так пусть он сам и рассудит, можем ли мы, братья, явиться к старику без младшего, без маленького, и признаться ему: «Мы потеряли его, он пропал». Можем ли мы подвергнуть такому испытанью его душу, которая привязана к этой душе, и мир, который и так уже полон горя и больше не выдержит? Могу ли прежде всего я, ведущий эту речь, четвертый его сын, Иуда по имени, явиться к нему тогда – посуди сам. Ибо господин мой знает еще не все, еще далеко не все, и чует сердце раба твоего, что речь его коснется и совсем другого в этот бедственный час. Да, оно чует, что на тайну, которая кроется во всех этих прихотях, можно пролить свет только открыв некую другую тайну.
Тут среди братьев поднялся беспокойный ропот. Но лев Иуда повысил голос и, продолжая свою речь, сказал:
– Я поручился отцу, я вызвался отвечать перед ним за маленького; так же, как я подошел сейчас к престолу твоему, я подошел к отцу и поклялся ему такими словами: «Доверь его моей руке, и я буду в ответе за него, и если я не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни!» Вот каков был мой обет, и теперь посуди сам, прихотливый владыка, могу ли я вернуться к отцу моему без маленького, чтобы увидеть горе, которое не по силам ни мне, ни миру! Прими же мое предложение! Оставь меня вместо него рабом своим, позволь нам посильно расплатиться за грех свой, не требуй от нас непосильной расплаты; ибо я хочу расплатиться, расплатиться за всех. Вот здесь, перед тобой, прихотливый, я возьму клятву, которой мы поклялись, ужасную клятву, которой мы, братья, себя связали, – обеими руками возьму я ее и, упершись коленом, переломлю пополам. Одиннадцатый наш, агнец отца, первенец праведной, – его вовсе не растерзал зверь, это мы, его братья, продали его некогда в мир.
Именно так, а не иначе кончил Иуда свою знаменитую речь. Он стоял тяжело дыша, и бледные, хотя и с великим облегчением, потому что все было сказано, стояли позади него братья. Это на свете не редкость – бледная облегченность. Но раздалось два возгласа – их издали самый большой и самый маленький. Рувим воскликнул: «Что слышу я!», а Вениамин совершенно так же, как в тот раз, когда их догнал управляющий, взметнул вверх руки и неописуемо вскрикнул… А Иосиф?.. Он встал со своего престола, и по щекам его, сверкая, катились слезы. Сноп света, падавший прежде сбоку на братьев, тихо перекочевав, упал теперь через оконце в конце палаты прямо на Иосифа, и поэтому бежавшие по его щекам слезы сверкали, как алмазы.
– Пусть все египтяне выйдут отсюда, – сказал он, – все до единого. Я пригласил поглядеть на эту игру бога и мир, а теперь пусть будет зрителем только бог.
Повиновались ему неохотно. Делая глазами знаки стоявшим на возвышенье писцам, Маи-Сахме обнял их сзади и вежливо выпроводил, а челядь отошла от дверей. Но что ушла она очень уж далеко, нам вряд ли поверят. Снаружи, а также в книжном покое все стояли наклонясь, боком к месту действия и приставив к уху ладонь.
А там, не обращая внимания на бежавшие по его щекам алмазы, Иосиф распростер руки и открылся братьям. Он часто открывался и ставил людей в тупик, показывая им, что в нем олицетворено нечто высшее, нежели то, чем он был, и это высшее туманно и обольстительно сливалось с собственным его «я». На этот раз он сказал просто и даже, несмотря на распростертые руки, со скромной усмешкой:
– Ребята, это же я. Ведь я же ваш брат Иосиф.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу