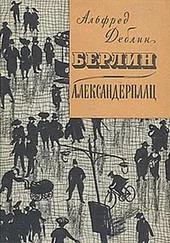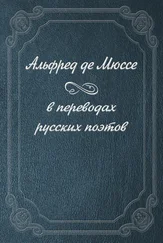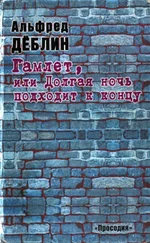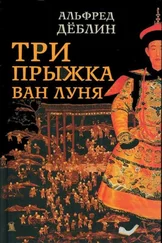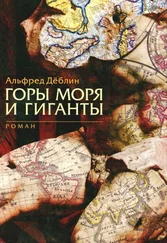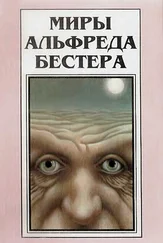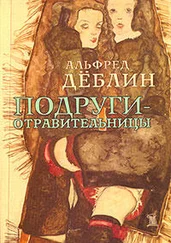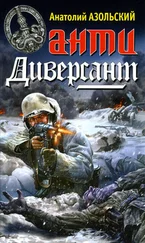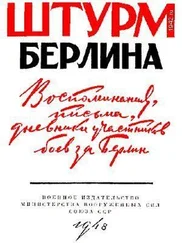В следующих главах эта связь экономики и секса подчеркивается тем, что женщины начинают функционировать в жизни Биберкопфа как «составные части системы имущественного обмена, связанного с увеличением товарной стоимости посредством вовлечения женщины в проституцию. Стоимость женщины зависит 〈…〉 от посторонней оценки. Биберкопф показывает Мици Рейнхольду, и 〈…〉 ждет его приговора, который является необходимым условием оценки его собственности» (Widdig 1992: 166–167). Стоит обратить внимание и на следующую деталь: каждая новая женщина приносит Францу «подарок» от Рейнхольда, который можно истолковать как символическую прибыль.
Пастровица – деревня недалеко от города Котора в Черногории.
…стал выдавать себя… за… барона Варту. – Вымышленное имя персонажа соответствует названию реки в Польше; Варта – правый приток Одера.
…обезьяна знает больше, чем иной человек ~ ни у одного человека нет такой тяжелой участи… – Образ обезьяны неоднократно встречается в романе (ср. с. 296 наст. изд.). Это животное обычно символизирует низшие силы, тьму. В Средние века считалось, что обезьяна – символ издевательств дьявола над божьим твореньем, существовало мнение, что она проявляет особую склонность к меланхолии, предаваясь грусти при убывании луны. Обезьяне уподобляется, в частности, ФБ. См. ниже по тексту: «Лицо у него было печальное, сморщенное 〈…〉» (с. 20 наст. изд.); «он ползал на четвереньках 〈…〉» (с. 26 наст. изд.).
Скандербег Георг Кастриоти (1405–1468) – национальный герой Албании, возглавивший освободительную борьбу албанцев против османских завоевателей.
Курфюрст саксонский. – Скорее всего, имеется в виду Август Второй Сильный (1670–1733), курфюрст Саксонии и король Польский (1697–1796, 1709–1733). В 1700–1721 гг. участвовал в Северной войне на стороне России.
…кронпринц прусский, который впоследствии прославился как великий полководец… – Очевидно, это Фридрих II Великий (1712–1786), выдающийся политик и военачальник. За время правления Фридриха II (1740–1786 гг.), в результате его политики, территория Пруссии удвоилась. Во время Семилетней войны (1756–1763 гг.) он отвоевал у Австрии и присоединил к Пруссии Силезию.
…австриячка, императрица Терезия, трепетала на своем троне. – Мария Терезия (1717–1780) – австрийская эрцгерцогиня с 1740 г., из династии Габсбургов. Утвердила свои права на владения Габсбургов в войне за австрийское наследство, но потеряла при этом Силезию.
Настроение бездеятельное, к концу дня значительное падение курсов, с Гамбургом вяло, Лондон слабее. – Нетрудно заметить, что название главы иронично перекликается с сексуальной неудачей Франца. Так Дёблин вводит в роман важный аспект жизни того времени: в контексте «новой деловитости» экономика была тесно связана с сексуальностью: «в период инфляции 1921–1923 годов 〈…〉 понятия „Берлин“, „проституция“ и „спекуляция“ прочно увязались в единое целое» (Слотердайк 2001: 230). Название главы сопрягает неуспех ФБ на любовном фронте с экономической ситуацией того времени, с ее нестабильной финансовой системой, инфляцией и кризисами.
Мюнцштрассе – улица, которая ведет на Александрплац.
Ишь ты, строят подземную дорогу… – Строительство берлинского метрополитена, начавшееся в 1902 г., вызывало живой интерес писателя. Дёблин любил наблюдать за строительными работами на берлинской подземке. Сохранились фотографии Дёблина на фоне строительных площадок берлинского метро.
А вон и кино. – Известен интерес Дёблина к кино: писатель был страстным любителем кинематографа; в одном из автобиографических эссе он вспоминал: «Были годы, когда я ходил в кино по меньшей мере раз в неделю. У меня не было никаких особенных пожеланий к создателям фильмов. Мне было хорошо уже тогда, когда они отказывались от высокодуховных окольных путей и просто предлагали зрителю веселое и захватывающее приключение» (Döblin 1972: 65). Дёблина интересовали технические возможности кино, которые позволяли по-новому отображать действительность, его специфическая эстетика и особенные выразительные возможности кинематографического языка. По его мнению, опыт кинематографа должен был расширить и обогатить возможности литературы. Уже в 1913 г., в программном обращении «К писателям и критикам», опубликованном в журнале Г. Вальдена «Штурм» («Der Sturm»), Дёблин употребляет термин «киностиль» (Kinostil), предлагая современным авторам использовать его в своем письме. «Киностиль», по мнению Дёблина, может сделать писательскую технику созвучной духу времени. «Киностиль» Дёблин определяет как «симультанность плюс монтаж – и все в бешеном темпе» («Simuntalität + Montage und das ganze in einem möglichst rasanten Tempo»). С «киностилем» связано дёблиновское понятие «деперсонизации» (Depersonation). Как и понятие «киностиль», термин «деперсонизация» принадлежит самому Дёблину; писатель намеренно отличает его от психиатрического термина «деперсонализация» (Depersonalisation), уже введенного в то время в научный обиход. При этом «деперсонизация» у Дёблина, по сути, означает то же самое, что и «деперсонализация», то есть максимальное отчуждение субъекта (в случае Дёблина – пишущего субъекта) от собственного «я» (а также и от описываемых событий). По Дёблину, в современном мире эпическое произведение мыслится лишь как отражение «бездушной действительности» («entseelte Realität»), как (почти) механическая запись происходящих событий (gestalteter, gewordener Ablauf), исключающая любое присутствие в этом описании рефлектирующего авторского сознания. «Гегемония автора должна быть нарушена 〈…〉 я – это не я, а улицы, фонари, такое-то и такое-то событие, не более того» (Döblin 1963: 17). Таким образом, позиция автора в эпическом произведении, по Дёблину, сравнима с объективом кинокамеры, который не видим зрителю, но всегда подразумевается и который, с одной стороны, беспристрастно запечатлевает обыденные вещи и события, а с другой – при помощи смены планов, замедленной и ускоренной съемки, акцентирования деталей и т. п. открывает иные стороны этих вещей, иные закономерности жизни, недоступные обычному взгляду. Наиболее удачным воплощением «киностиля» в творчестве Дёблина исследователи считают как раз БА. Уже первым рецензентам романа бросилось в глаза сходство романа с кинофильмом. Один из критиков писал (после премьеры фильма «Берлин Александрплац», в 1931 г.): «В романе Дёблина уже угадывалась киноформа. Это был, так сказать, написанный кинофильм» (Krakauer 1931: 859–860). Немецкий литературовед Ф. Мартини в своем анализе БА более подробно обозначил сходство между языком кино и поэтикой дёблиновского романа:
Читать дальше
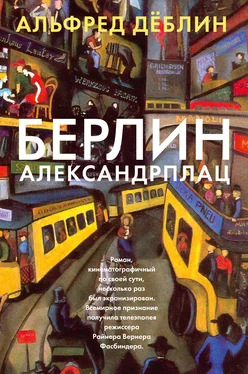
![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)