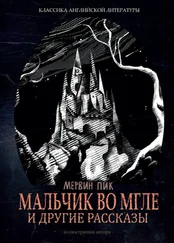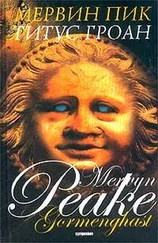Другой, пожалуй, и содрогнулся бы, но молодой человек всего лишь провел языком по губам. «Вот уж точно местечко , – сказал он себе. – Ничего не скажешь, самое то, что нужно».
Однако стрелки часов ползли, времени на размышления не оставалось, и потому он повернулся спиной к холодным пространствам, где вздувались и прогибались длинные стены, где штукатурка обвисала и покрывалась испариной от холода и безжизненной жары, от немощей умбры и недомоганий оливковой краски.
Дойдя до двери, за которой взаперти сидели Двойняшки, он вытащил из кармана связку ключей и, выбрав один, изготовленный им самим, отпер замок.
Дверь подалась его нажиму с натужным, скрежещущим звуком.
Сколь ни туги были петли двери, Стирпайку потребовалось не больше секунды, чтобы распахнуть ее настежь. Если б ему пришлось побороться, чтобы войти, с разбухшей древесиной, повозиться с замком, надавить плечом на сырые филенки, – даже если бы звук шагов Стирпайка предвестил скорое его появление, – и тогда увиденное им, сколь оно ни было странно, не окатило бы молодого человека столь необычайным, фантастическим ужасом.
Ни звука не произвел он. Никак не предупредил о своем приходе – и однако ж Двойняшки с белыми, как свиное сало, лицами стояли перед ним рука в руке. Они разместились прямо за дверью, на которую, надо думать, неотрывно смотрели. Они походили на восковые либо алебастровые фигуры, или же на зверьков, застывших стойком над своими норами; взоры сестер были, казалось, прикованы к лицу хозяина, рты полуоткрыты как бы в ожидании лакомства – некоего привычного сигнала.
Никакого выражения не обозначилось в глазах Двойняшек, да там для него и места-то не было, ибо каждый из глаз по отдельности заполняло чужеродное тело, в каждой из четырех остекленелых зениц великолепнейшим образом отражался молодой человек. Пусть те, кто хоть раз пробовал передавать любовные письма сквозь игольное ушко или писал стихи на булавочных головках, – пусть они воспрянут духом. При всей грубости и суровости обращения с ними, сестрам так и не дано было уяснить степень собственной их топорности, ибо не дано было увидеть, как голова и плечи Стирпайка наклоняются, уместившись в бусины, самое равноотстояние которых (Двойняшки застыли щека к щеке) словно служило оправданием жуткой повторяемости всего кошмара в целом. Крохотные и совершенные в микрокосме зрачков, эти четыре мирка, тождественные и ужасные, поблескивали между их век. Казалось, они – изображенья Стирпайка – написаны одним-единственным волоском либо хоботком пчелы – ибо даже белки его глаз светились в них, точно хрустальные. Когда же стоящий в двери Стирпайк откинул назад голову – откинул, повинуясь внезапному побуждению, – четыре его головы, величиной не превосходившие зернышек, откинулись в то же мгновение, и восемь глаз сузились, выглядывая из четырех микроскопических зеркал – созерцая оригинал, высящегося в двери молодого человека, от которого зависели теперь уж недолгие, бездеятельные жизни сестер, – на человека с сузившимися глазами, малейшее движение коего было и их движеньями.
Неведенье глаз Двойняшек о том, что они отражают, было вполне естественным, неестественно было бы, если б глаза сестер, доносившие изображенье Стирпайка до их идентичных мозгов, хоть в малой мере отвечали за волнение в груди каждой из них. Ибо казалось, что сестры не чувствуют ничего, ничего не видят, что они мертвы, а на ногах держатся только каким-то чудом.
Стирпайк мгновенно понял, что в его отношениях с Корой и Кларисса завершилась еще одна глава. Ставшие глиной в его руках, они теперь уже не были глиной, если только глине не свойственно нечто не просто непредсказуемое, но и зловещее. И не только зловещее – твердокаменное. Отныне он знал: сестры вышли из повиновения, самый состав их изменился, – они остались, как прежде, сестрами, но ужесточились, обратились в кремень.
Все это можно было понять с первого взгляда. Но вот, внезапно, возникло нечто, ускользнувшее от зоркости Стирпайка. Сейчас скажу – что. Из глаз сестер исчезло его отражение. Их светлости, сами того не ведая, изгнали его. Нечто иное пришло ему на смену – и так же, как молодой человек не ведал прежде, что отражается в их глазах, точно так же не ведал он сейчас и того, что больше уж не отражается: что обменялся в хрусталиках сестер местами с обухом топора.
Однако Стирпайк мог видеть, что сестры на него больше не смотрят, – что взгляды их устремлены на что-то, находящееся над ним. Они не подняли кверху лиц, хоть сделать это было б только естественно, ибо то, на что они уставились, находилось выше линии их взглядов. Обе завели вверх глаза – так, что белизна засветилась меж век. Но если не брать в расчет это движенье глазных яблок, сестры даже не шелохнулись.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


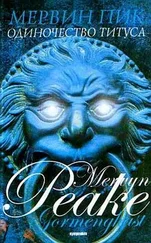

![Мервин Пик - Титус Гроан [liters]](/books/32928/mervin-pik-titus-groan-liters-thumb.webp)