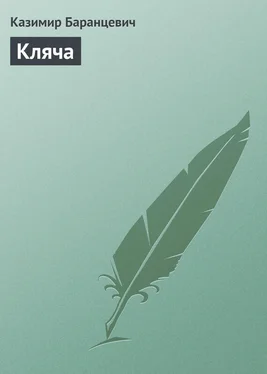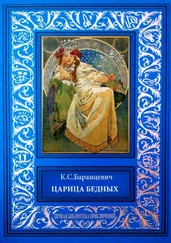Казимир Станиславович Баранцевич
Кляча
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты свой жизненный путь, —
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Некрасов [1]
Знакомы ли вы, читатель, с теми отдаленными, укромными уголками столицы, вроде конца Песков, Коломны, набережной Обводного канала и проч., куда всесильный прогресс пока еще не мчится на всех парусах, а тащится себе потихоньку, постепенно, шаг за шагом, отвоевывая в свою власть и безлюдные, темные улицы, и кривые переулки? Смею думать, что нет. И если вам случится по делу, и притом вечером, отправляться в такие места, вы уже заранее, мысленно, населяете их всевозможными ужасами брянских лесов, созданными вашим напуганным воображением, а нанимая извозчика, наверно, пустите предварительно в ход все свои физиономические познания, с целью постичь, не смотрит ли этот простоватый парень, у которого, по народному выражению, «рождество шире масленицы» [2], именно тем злодеем, которому надлежит подвести вас под нож или петлю.
Вот вы уселись в сани, внутренне призывая на себя милость божию, возница запахнул полость, взялся за вожжи и причмокнул. Кончено! Вы во власти судьбы. Лошадь трусит. Молчаливый парень сидит на облучке, и видно только, как подергивает локтями. Сквозь сизый туман зимних сумерек мелькают глухие переулки с масляными, далеко отстоящими друг от друга фонарями, какие-то псы яростно лают во мраке, тянутся бесконечные заборы с беспомощно приткнувшейся где-нибудь в углу фигуркой человека, и рисуются кое-где темные силуэты покривившихся деревянных домишек…
Какой контраст с тем, что вы только что видели! Широкие улицы ярко горели бесконечной двойной лентой газа, в бешеной езде по ним мчались кареты и сани, резкий звонок битком набитого вагона конножелезки неожиданно смешивался с мелодическим переливом бубенчиков нарядной, ухарской тройки, группы людей толклись на тротуарах, обгоняя друг друга, заглядывая под шляпки хорошеньких женщин, заходя в роскошно освещенные магазины и рестораны и толкаясь на ступеньках Пассажа, над гостеприимно открытыми дверями которого два огромных шара электрических фонарей бросали на мостовую широкие белые полосы света…
И вдруг холодный мрак зимней ночи, пустота и безлюдно. Какой ужас! Но вот вы увидели на углу улицы апатично стоящего городового, дальше вам встретился едущий шагом пикет казаков, и ваше робкое сердце начинает свободнее биться. «Слава богу, – думаете вы, – меры приняты, есть охрана. Извозчик, чего ты дремлешь? Пошел скорей!»
Но мне жаль вас, жаль за ваше трусливое неведение, ибо я вполне убежден, что бояться вам положительно нечего.
Бойтесь скорее дневного грабежа на ваших фешенебельных улицах, в какой-нибудь новоиспеченной, шикарно меблированной банкирской конторе, в дверях которой величественный швейцар ласково снимет с вас шубу, а еще более величественный «банкир» с еще большей ласковостью не задумается снять последнюю рубашку. Бойтесь этого испитого, юркого мальчишки, что вертится в уровень с вашим карманом в то время, когда вы, после сытного обеда, с сигарой в зубах, в благодушнейшем настроении глазеете на картины и эстампы, красующиеся за зеркальными окнами магазинов Дациаро и Фельтена [3], потому что этот мальчишка, в виде контрибуции за свою нищету и невежество, наверно, запустит ручонку к вам в карман. С этой целью он пришел оттуда, из недр темных улиц и пустынных переулков, где он живет, где вместе с ним живут все эти, быть может, грубые и дикие, но всегда сурово-честные мученики труда.
О, я не боюсь ни этих глухих улиц, ни кривых переулков, скажу больше, – я люблю их, потому что с многими из них я связан цепью отрадных воспоминаний беспечального детства.
Вот за углом забора, из-за которого далеко на улицу распространяет широкие ветви могучая береза, стоит городовой. Теперь он сед, угрюм, и новая форма придает ему чрезвычайно воинственную осанку. Но я помню его много лет тому назад: он был весел, услужлив, большой охотник до выпивки и женского пола и сквозь пальцы смотрел на проказы юного населения улицы. Но времена переменчивы. Я прохожу мимо, он не кланяется мне, даже делает вид, что не узнает. Конечно, уж не попросит на «стаканчик», ибо он теперь не просто городовой, а наблюдатель. А вон и сторож церковной часовни. Все такой же, как и двадцать лет тому назад, все в такой же кацавейке и не то скуфейке, не то какой-то странной шапке, маленький, небритый, подслеповатый, вечно вооруженный метлой, вечный, непримиримый враг собак, питающих, как известно, непреодолимую страсть ко всяким углам.
Читать дальше