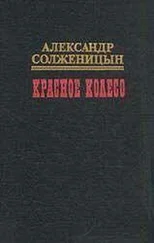А всё это хорошо выпало! – и трёхдневная суматоха в Смоленске с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того более – сама езда, когда Ярослав не пошёл в офицерский вагон, а остался со своими, собственными своими , ему доверенными сорока народными лицами в теплушке, – и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, залязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к народу много говорили, только и говорили в семье Харитоновых, для кого же и жить, как не для народа, – да только видеть народ было негде и нельзя, даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять, к народу никак было не подойти, ни с какой стороны не заговорить, не известно, что говорить, стесняешься, – а вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца, и сами они искали его – просить, спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших действий по службе, только вбирать и вбирать глазами, ушами и памятью – кто как зовётся, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места – вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду, урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие выгоны, – ведь нигде ж Ярослав ещё не был, ведь всё это повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно – объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке, и слушать, как балалайка их тренькает (сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днём стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородивший раздвинутую дверь (а внизу ещё сидят, ноги наружу свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на войне – а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно весело было и солдатам, всё время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом, – а на узловых станциях ещё встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма – маме, Юрику и Оксане-печенежке, милой сестрёнке, – настоящей сестре, потому что Женя, ставши замужем и с ребёнком, превратилась в младшую маму, только почужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть вольно-мужественным и вместе с простым народом.
Но дальше не так было весело, уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше, – и, как издеваясь, погнали пешком почти рядом с колеёй – до Остроленки, так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвыкшим запасным, в обуви необхоженной, в одежде неприношенной да со всей амуницией. Отчего так? – нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: «Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?» И кричали ему: «Вéр-нá!» (Ярослав тоже кричал.)
Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохолец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать), – сам, от смеху давясь, кричал на колонну: «Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?» И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через плечо, а топали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк не спрашивай, офицеры теряли своих ещё не пригляженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и пробирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты коров, гонимых на свежую пищу их дивизии.
А 8 августа, на третий день как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии, и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики – и когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки, с криками заметались птицы, лошади бились и рвались, – солдаты крестились сплошь и гудели: «Не к добру!.. Ой, неспроста…»
Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы устроить – ещё в отличных солдат можно было вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу, – пятнадцать лет из деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нём говорили, старовидный, – но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить-отходить, как в чести тянуться с самозабвением: «Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, явился!» – и в небо торчали усы, и глаза блюдцами, – а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узналось).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу