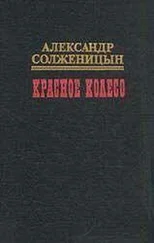Воротынцев ещё надеется переменить течение событий – и потому выходит из Грюнфлисского леса со своей случайно сложившейся группой (армией в миниатюре) и даёт бой в Ставке, пытается раскрыть глаза тем, кто губит Россию. Самсонов осознает свою личную беспомощность перед лицом грозной «силы вещей» – и потому винит в первую очередь себя («Он хотел только хорошего, а совершилось – крайне худо, некуда хуже <���…> Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России»), отрешается от прежних обид и поиска виновных [25]и кончает с собой в том же самом Грюнфлисском лесу (48). Самоубийство Самсонова – аналог «самоубийственной» речи Воротынцева, которая становится смысловым итогом Первого Узла и предваряющим объяснением дальнейших событий. Закономерно, что самоубийство Самсонова приходится на композиционную вершину «Августа Четырнадцатого», точную середину текста (при двухтомном издании – а иначе печатать «Август» едва ли целесообразно – это последняя глава первой книги). [26]
Трагический конец Самсонова, кажется, в принципе не может быть истолкован однозначно. Описывая прощание генерала с разгромленными войсками, Солженицын говорит о его нравственной высоте, которую чувствуют и солдаты, и Воротынцев. «Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, – не подвержены были проклятью». Воротынцев распознаёт в Самсонове жертву и чувствует, что такой жертвой может стать сама Россия: «А за четверо с половиной суток (когда Воротынцев метался по фронту, а не оберегал командующего. – А. Н. ) совершилась вся катастрофа Второй армии. Вообще – русской армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если… не вообще…» Воротынцев догадывается, что Самсонову открылось нечто, обычному человеку недоступное: «Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по лицу командующего: может быть по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно» (44). Отрешённость, осознание себя жертвой (не отменяющее, однако, чувства вины) слиты в Самсонове с ощущением провиденциальности случившегося, подчинённости исторических событий Божьей воле. Чувство это приходит с вещим сном, когда после долгих молитв (как и позднее, перед смертью, готовые молитвы переходят в молитвы почти без слов (31, 48)) Самсонов слышит загадочное «Ты – успишь…» (не «успеешь» и не «уснешь», а «успишь»), а очнувшись, понимает, что «успишь» – «это от Успения, это значит: умрёшь» и что «Успение – сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России» (31). Глава эта, в начале которой Самсонов вспоминает немецкую фразу о Наполеоне в горящей Москве («Es war die höhste Zeit sich zu retten» – «Было крайнее время спасаться»; подчеркнута двусмысленность эпитета – höhste буквально значит «высшее») следует непосредственно за третьим видением «красного колеса», колеса, отлетевшего от телеги. В телеге этой задним числом распознаёшь символическую телегу российского государства из переписки грамотного крестьянина с Толстым, о которой Саня рассказывает Варсонофьеву. В отличие от Толстого, Саня полагает, что телегу должно не бросить, но поставить на колеса (42). Именно это и не удаётся сделать решившемуся было на спасительный «отважный удар» Самсонову, что подчёркнуто монтажным стыком 30-й и 31-й глав и пожарно-наполеоновской отсылкой к «Войне и миру». Сознание обречённости у Самсонова возрастает в День Нерукотворного Образа:
«До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения – и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.
Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России» (44).
Голоса автора и Самсонова сливаются, и мы, как чуть позже Воротынцев, проникаемся правдой самсоновского смирения, хотя главы предшествующие (42-я – оправданность ухода Сани и Коти на войну; 43-я – умный героизм отступающих) настраивают на иной лад. Где кончается покорность Божьей воле и начинается непротивление злу, невольно споспешествующее его преумножению? Где смирение переходит в нравственную капитуляцию, а высота духа – в бегство от ответственности? Рациональных ответов на эти вопросы нет. Видя в последний раз Самсонова, Воротынцев не анализирует его действия, а переполняется состраданием к командующему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу