1 ...6 7 8 10 11 12 ...146 Некоторые германисты, помню это, негодовали по поводу выступления Горенштейна против Грасса, считая его чуть ли не хулиганством. Не изменили ли они свою точку зрения после признания Грасса, что он был эсэсовцем, не посчитали ли, что у Горенштейна были серьезные основания для обличения Грасса?
С началом «перестройки», когда у нас была ликвидирована цензура, стали печатать и эмигрантов, – правда, на первых порах еще опасливо, оглядываясь: не дадут ли за это по шапке. Случалось, что давали. По указанию Лигачева – он был тогда в руководстве партии вторым человеком – «Литературке» запретили печатать некролог Виктора Некрасова. Тогда гулял стишок, предостерегавший прекраснодушных и легковерных: «Теперь у нас эпоха гласности, но скоро кончится она, и в Комитете безопасности запишут наши имена».
Встала проблема издания и для книг Горенштейна. Но это было не просто. Горенштейн жаловался, что его замалчивали. Было не совсем так. Просто текущая критика им почти не занималась – в том числе и эмигрантская, он был ей не по зубам. Но о нем, о его книгах, высоко оценивая их, писали очень серьезные, уважаемые литераторы, литературоведы – во Франции (я уже называл его) Е. Эткинд, в Германии Борис Хазанов, в Израиле Шимон Маркиш, в России Григорий Померанц, Вячеслав Иванов. Однако все это было позднее.
В интервью в 1990 году Горенштейн сказал: «Теперь мои книги возвращаются...» Со дня на день в Москве тогда должен был выйти его трехтомник – он ждал его. В издательской судьбе книг Горенштейна этот трехтомник – самый счастливый, очень важный эпизод. Трехтомник выпустило незадолго до этого созданное издательство «Слово». Выпустило на свой страх и риск: никакого издательского фундамента у Горенштейна в Советском Союзе не было – напечатан был когда-то лишь рассказ «Дом с башенкой». Да и за рубежом предложений об издании его собрания сочинений или представительного сборника не было. Так что в молодом издательстве руководствовались собственной оценкой художественных достоинств произведений Горенштейна (должен в связи с этим сказать добрые слова о главном редакторе издательства Диане Тевекелян – она заслуживает их). Выход трехтомника стал событием, стимулировавшим интерес к творчеству Горенштейна в наших средствах печати. В «Знамени» была напечатана первая часть романа «Место», в журнале «Театр» – пьеса «Споры о Достоевском», в «Искусстве кино» – «Зима 53-го года», в «Юности» – «Искупление», в «Октябре» – «Псалом». <...>
Я уже цитировал Ефима Эткинда, писавшего о Горенштейне, что он «займет почетное место в современной русской литературе». Это было пожелание доброго пути писателю, который тогда работал не покладая рук, вера в то, что его книги непременно займут это «почетное место». «Крупнейший русский писатель последних десятилетий» – это после кончины Горенштейна писал Борис Хазанов, определяя место творчества Горенштейна на «карте» литературы. Не хочется, опираясь на их слова, предлагать какую-нибудь велеречивую формулировку.
Как сегодня обстоит дело? В прошлом году в ноябрьской книжке «Знамя» в рубрике «конференц-зал» задало литераторам вопросы: какова роль произведений, вышедших в свет на рубеже 1980 – 1990 годов, каково их место в истории сегодняшней литературы? Бросалось в глаза, что в числе этих сохранивших силу произведений литераторы называли Горенштейна. И вот еще что: недавно мне попала в руки монография Алексея Татаринова «Нирвана и Апокалипсис: кризисная эсхатология художественной прозы», вышедшая в провинции – хочу на это обратить внимание, – в которой одна из глав посвящена роману «Псалом» Горенштейна. Для меня «конференц-зал» «Знамени» и эта монография были свидетельством того, что творчество Горенштейна стало и остается частью живого литературного процесса. <...>
В общем, Горенштейн – писатель, которого еще предстоит издавать и осваивать. Но он много даст читателям – в этом я не сомневаюсь...
Лазарь Лазарев
Мать сидела на табурете, привалившись спиной к столу, и красными от мороза руками стаскивала кирзовый сапог. Всякий раз, когда мать, придя с работы, начинала стаскивать сапог, Сашенька замирала, глотая слюну, с колотящимся сердцем ожидая лакомых кусочков. Был последний день декабря сорок пятого, уже начинало темнеть, и Ольга принесла из кухни коптилку.
То, что их жилица Ольга была дома, сердило Сашеньку: она знала, что Ольга не уйдет к себе на кухню, а будет торчать у стола, пока мать не даст и ей что-нибудь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
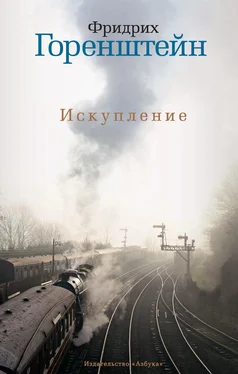
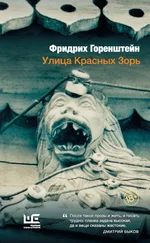
![Фридрих Горенштейн - Шампанское с желчью [Авторский сборник]](/books/142121/fridrih-gorenshtejn-shampanskoe-s-zhelchyu-avtorskij-thumb.webp)

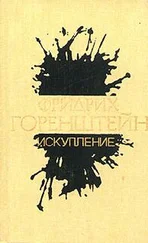
![Фридрих Горенштейн - Бердичев [сборник]](/books/393636/fridrih-gorenshtejn-berdichev-sbornik-thumb.webp)
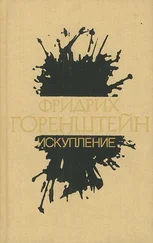
![Фридрих Горенштейн - Дом с башенкой [Журнальный вариант]](/books/427190/fridrih-gorenshtejn-dom-s-bashenkoj-zhurnalnyj-vari-thumb.webp)