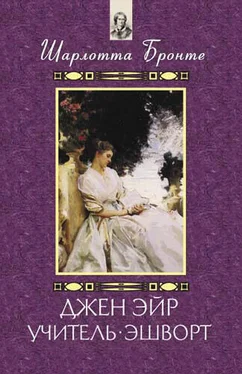В эту минуту мы возвращались по аллее, и дом был прямо перед нами. Подняв глаза к парапету, он обратил туда жгучий взгляд, какой мне не доводилось видеть ни прежде, ни потом. Боль, стыд, гнев, нетерпение, омерзение секунду вели схватку в расширенных до предела зрачках под черными бровями. Безумным был бой за первенство, но восторжествовало вспыхнувшее в них совсем иное чувство, нечто неумолимое и саркастическое, своевольное и беспощадное. Оно и придало его лицу каменную неподвижность. Он продолжал:
– В ту минуту, когда я замолчал, мисс Эйр, я кое-что решал с моей судьбой. Она стояла вон там у ствола бука – ведьма вроде тех, что являлись Макбету средь вересков под Форресом. «Ты любишь Тернфилд? – сказала она, подняла палец и синеватым пламенем начертала в воздухе письмена вдоль всего фасада между нижними и верхними окнами. – Так люби его, если можешь! Люби его, если смеешь!» «Я буду любить его, – сказал я. – Я смею любить его», и, – добавил он угрюмо, – я сдержу свое слово. Я смету препятствия во имя счастья, во имя добродетели – да, добродетели! Я хочу стать лучше, чем был, чем пока остаюсь. Подобно тому как Левиафан Иова сокрушал копья, дротики и латы, так я считаю соломой и гнилым деревом препятствия, которые другим представляются железом и медью.
Тут к нему подбежала Адель, подбрасывая волан.
– Прочь! – резко приказал он. – Не подходи ко мне, дитя, или вернись с Софи в дом!
Он продолжал идти дальше в молчании, и я осмелилась напомнить ему то место, на котором этим внезапным отступлением он прервал свой рассказ.
– Когда мадемуазель Варанс вернулась, – спросила я, – вы ушли с балкона, сэр?
Я почти ожидала резкой отповеди за этот совсем не своевременный вопрос, однако он очнулся от своей хмурой рассеянности, взглянул на меня, и его лицо прояснилось.
– А! Я и забыл про Селину! Ну так продолжим. Когда я увидел, что моя чаровница вернулась в сопровождении кавалера, мне почудилось шипение: зеленая змея ревности кольцами взвилась с озаренного луной балкона, заползла под мой жилет и за две минуты прогрызла себе путь в мое сердце. Странно! – воскликнул он, вновь отвлекаясь от своего рассказа. – Странно, барышня, что я избрал вас в наперсницы, и еще более странно, что вы слушаете меня с полным спокойствием, будто мужчине вроде меня так и положено рассказывать про своих оперных любовниц скромной неопытной девушке вроде вас! Но вторая странность объясняет первую: как я уже упоминал раньше, ваша серьезность, участливость и сдержанность обрекают вас быть поверенной чужих секретов. К тому же я знаю, какому духу я дал соприкоснуться с моим. Я знаю, он недоступен заражению, это особый дух, единственный в своем роде. К счастью, у меня нет намерения причинить ему вред, а если бы и было, он не поддался бы этой порче. Чем больше мы будем беседовать, тем лучше: я не могу испортить вас, но вы можете обновить меня.
После этого отступления он вернулся к теме:
– Я остался на балконе. «Без сомнения, они поднимутся в ее будуар, – подумал я. – Надо устроить засаду». И протянув руку в открытую дверь, я задернул портьеру, но оставил узкий просвет, чтобы следить за происходящим в комнате. Затем я притворил дверь так, чтобы в щелку на балкон мог доноситься шепот влюбленных. Едва я вернулся в свое кресло, как они вошли. Я не спускал глаз с просвета. Следом за ними вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила ее на столик и удалилась. Теперь они были хорошо видны. Мантилья и плащ были сброшены, и моим глазам явилась мадемуазель Варанс, блистая атласом и брильянтами (подаренными мною, разумеется), а с ней и ее кавалер в офицерском мундире. Я узнал некоего виконта, молодого вертопраха, безмозглого и порочного, которого иногда встречал в свете и которого мне в голову бы не пришло возненавидеть, так глубоко я его презирал. И в этот миг ядовитые клыки змеи – то есть ревности – сломались, так как моя любовь к Селине тотчас угасла. Женщина, способная изменить мне с таким соперником, не стоила соперничества, а заслуживала лишь презрения – впрочем, пожалуй, меньшего, чем я, глупец, попавший на ее крючок.
Они заговорили, и их беседа окончательно меня излечила: такие бессмысленные фривольности, такие свидетельства бессердечности и корыстолюбия, какими она была полна, могли вызвать у слушателя лишь скуку, а не гнев. На столе лежала моя визитная карточка, и, заметив ее, они заговорили обо мне. Ни у нее, ни у него не хватало живости и остроумия, чтобы отделать меня на все корки. Они поносили меня с мелочной грубостью, и особенно Селина. Она даже достигла некоторого блеска, прохаживаясь по адресу моих физических недостатков – уродств, как она их именовала. А ведь у нее было обыкновение пылко восхищаться тем, что она назвала моей «beauté mâle» [35] Мужской красотой ( фр. ).
. Этим она диаметрально отличается от вас: ведь вы во втором нашем разговоре без обиняков сообщили мне, что не считаете меня красавцем. И меня поразил такой контраст…
Читать дальше