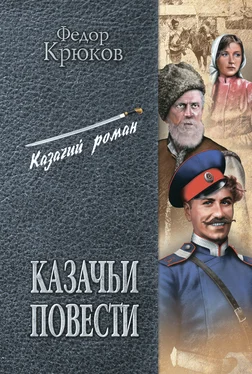С первых своих произведений Крюков заявил себя мастером пейзажа. Охотно и подробно брался он живописать родную сторонку – точно она давала силы в борьбе с Чекушевыми, Мамалыгами, и делал это столь жадно и постоянно, что не пустой покажется мысль: как художник Крюков начинался с пейзажа. Охотно и густо кладет он сочные цветные акварели на полотно, вобравшее Донщину, ее природа у писателя многокрасочная, живая, дышащая, меняющаяся, вплотную придвинувшаяся к доброй душе. Без такой палитры донской писатель вообще невозможен, но Крюков – один из самых прикипевших к своему краю щедрых на краски мастеров слова.
В чем секрет этого художнического обаяния? В том ли, что вы с первых строк начинаете чувствовать жаркое биение пульса здешней особенной жизни; у автора как будто привычный набор слов, спокойно и плавно ведет речь свою, как вдруг – цветным селезнем над плавнями, серебристочешуйчатой рыбицей над лазоревым стеклом речушки – взовьется неожиданно, нигде не слыханное, «крюковское» словцо, для сего случая найденное, на свое место поставленное. «Простор и дали под ярким, знойным небом глотают бесследно голоса людей, стук телег, конский топот. Высок шатер и необъятен, и все на жаждущей земле под ним глядит таким игрушечным и маленьким: и яблоньки, и лес далекий, и хуторские домики в садах, овраги на горе, болотца с узкой каймой зелени и хохлатыми чибисками, табун овец и крылья мельниц. Все крошечное в знойном сиянии дня – томно неподвижное, почти застывшее» [16] Своеобычное, как нам кажется, выделяем всюду курсивом.
. Этот пейзаж из «Речки лазоревой» очень характерен для Крюкова-живописца: отчая сторонка «плотно заселена», и жизнь здесь неуемна в своих проявлениях. Для «первобытной, раскольничьей» реки автор не подыщет иного эпитета, как милая, а тишь над нею, конечно же, кроткая, и если над Медведицей понесутся звуки гармоники, то печаль нашего автора-рассказчика будет чуждая, красивая, а жалоба – нарядная, выплаканная в мелодии вальса.
Однако писатель далек от одного только любования этой жизнью. Казаки у него участвуют в рыбалке жадно и азартно, гомят (гомонят; местные слова сравнительно редки и в контексте обычно понятны), веселятся на этой праздничной забаве, сменившей тяжелую и скучную повседневность; но Крюкову видится еще и неприметное другим: над «рыбьей тоской и немым страданием» – хищное торжество и буйная радость победителя-человека. И только мальчонка у него – из забавы, не из жалости – станет выпускать пленных рыбешек на свободу.
Присутствие автора всегда ненавязчиво, а главное, оправдано – и не только сюжетно, композиционно, но нравственно: Крюков вносит в народную казачью среду определенный высокий духовный, интеллигентский настрой, – в этом писатель – преданный последователь лучших литературных традиций демократического, народнического полустолетия (1860 -1900-х годов, т, е. от крымского разгрома и Освобождения до 1-й революции). Крюкова обычно мало интересуют фабульные изыски (да и не силен он в них), его сюжет всегда прост, «однолинеен», не в его извивах сила литератора. Ему гораздо ближе, важнее то нравственное состояние, какое должны сообщить читателю его произведения. Вот очень «крюковский» фрагмент, где автор не станет рассказывать о своем настроении, а рассчитанно положится на краски, набросанные им на полотно, краски – мягкие, приглушенного тона, начисто лишенные экспрессии. «Я встал и отошел на косу, – песня всегда красивее и мягче на расстоянии, чем вблизи [17] Известно, что сам Крюков имел хороший голос, прекрасно пел – особенно любимые им старинные казачьи и русские народные песни.
. Матовым, изогнутым зеркалом лежала река, зелено-синяя, у берегов темная, закутанная тенями… за холмами, за хутором Чигонацким садилось солнце, – не видать его было, но горело розовым золотом белое облако на востоке… Еще душновато было и тихо. Когда обрывалась песня, слышно было, как в подмытом, свалившемся в воду дубовом кусту тихо покряхтывала лягушка, стонала страстным звуком».
Мир у Крюкова всегда яркий, живой, многоцветный и многолюдный, неостановимо думающий, глубокий, гораздо более сложный, чем помышляют те, кому он видится в «первородной» примитивности и простоте. И еще этот мир очень цельный. Вот, к примеру, как его краса и полнота раскрываются в повести «Зыбь». Гагаканье гусей отзывает медным звоном, а овцы и ягнята напомнят своим блеянием школьников, нестройным, но старательным хором поющих утреннюю молитву; бороны, что тряслись на арбах уткнувшись в сено, сердито ощерялись зубьями, но ехидно-цепкими становятся они, когда лезут в землю; у серой кобылы Корсачной, не ждущей понуканий, трудолюбивой старухи с отвисшей нижней губой и слабыми, уже согнутыми коленями – разглядит писатель – умные глаза и острую, точно пила, от старости спину. И арба у него, прежде чем двинуться, закряхтит и встрепенется, потом уже станет качать трехлетнего казачонка, как в зыбке. Эти образы даются только наблюдательному глазу и отзывчивому, глубоко знающему и навсегда любящему весь этот немудреный и вечный быт исконных землеробов.
Читать дальше