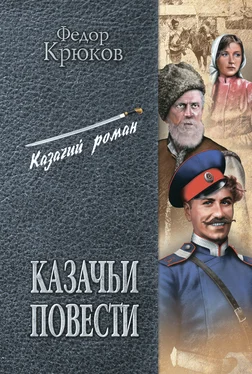Поэтика произведений Федора Крюкова оказывалась непредставима без милого образа родной донской стороны с ее синими неспешными реками, полынной степью с бегущими под ветром шарами перекати-поля, желто-серых песчаных бурунов, изумрудных мочежинок… [1] Буруны – застывшие песчаные гребни; мочежина, мочаг – мелководное место, ровное, сырое, часто от ключа.
Два образа теперь соединились в молодой, сентиментально-романтической и вместе с тем ищущей новой духовной родины, твердой идейной основы душе: великой, идущей к какому-то большому перелому России и отчего края – «бесхитростной степи, солнцепека и хуторской непосредственности». Исповеднически скажет Крюков на исходе творческого пути в канун революции: «Я любил Россию – всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. „Могучую и бессильную…“ Я болел ее болью, радовался ее редкими радостями, гордился ее гордостью, горел ее жгучим стыдом… Но самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос… Я любил казака-землероба, повинного долгой воинской работе. Я издали угадывал родную фигуру в фуражке блином, в заплатанных шароварах. С лампасами, в чириках [2] Чирики, черевики, чувяки – мужская и женская легкая обувь (донской словарь).
, и благодушно смеялось мое сердце при звуках простодушной речи казацкой, трепетно отзывалось на тягучий мотив старинной казацкой песни…» [3] Крюков Ф.Д. Первые выборы. – Русские записки, 1916, № 4, с. 163, 165.
.
Кажется, сильнее не сказать о сыновней привязанности к Отечеству. Но здесь Крюков описал начальный, так сказать, «романтический» период становления своего мировоззрения. Одна из высших ступеней этого пути к вершине достигнута им в пору первой революции. Как общественник, и политик, и художник Крюков рос стремительно. Расставание с гимназией произошло после 13-летней педагогической деятельности, когда статским советником он был избран от Области войска донского в депутаты 1-й, самой фрондерствующей, даже самой, пожалуй, мятежной из четырех российских Государственных дум. После ее решительного, хотя и иезуитского, ночного разгона обычно нерешительным, рефлектирующим царем Крюков оказался в числе 169 вольнолюбивых депутатов, подписавших Выборгское воззвание протеста против действий Николая II. Политическая карьера пресеклась на целые десять лет. Писателю, как и его сотоварищам, пришлось выполнить почти неизбежную для российского свободомыслящего интеллигента тюремную подать – отсидеть за Выборг в «Крестах». Потом он окажется высланным с легитимного православного тихого Дона в бушующий разнонаправленными страстями Петербург (случалось в нашем Отечестве и такое). Там он стал – после недолгой «смирной» службы – библиотекарем Горного института – сотрудником «тенденциозного» антиправительственного журнала В.Г. Короленко «Русское богатство» и основателем тоже легальной постнароднической партии народных социалистов.
Но еще с институтской и учительской поры осознал «казак», чем ему грозило «выламывание» из сословия, которому он отдал душу, посвятил свой литературный талант. Крюков на родимом тихом Дону видел и смущающее душу: он, – писатель, педагог, интеллигент из простых казаков, в своих желаниях «внести свет» в казачью среду, чтобы «раздвинуть стиснутую жизнь», отнять у нее «оскудение», отсталость и неизбежное в будущем хозяйственное порабощение, – он для носящих лампасы станичников «чужак», «сюртук»; «интеллихент», «казак наоборот». Не раз испытает на себе цельный, правдивый перед собой и читателем Крюков эту двойственность, «зыбкость» (его любимое слово) своего положения.
Путь к писательству оказался для него не легким и не прямым. В год окончания института, 1892-й, голодный и холерный, картины всесветного бедствия – что нижегородских сеятелей, что донских хлеборобов-казаков и их соседей «хохликов», – как шутил Крюков, – очень подействовали на 22-летнего выпускника, и он всерьез раздумался: надо идти «в народ» ради реальной ему помощи; а сделать это лучше всего в роли простого и близкого к селянину-хлебопашцу иерея… Время еще дышало могучими народническими порывами, пусть даже воплощающимися в не такую уж худую теорию «малых дел»: истовые хранители наследства еще досиживали свои сроки по тюремным замкам, маялись в архангелогородских или якутских ссылочных тмутараканях, но их идейный и нравственный настрой торжественно и чудно вливался в поколение сыновей и младших братьев, – крюковских ровесников [4] Г.В. Плеханов глубоко и проницательно отчеркнул различия в мощном полувековом исконно российском движении: «Народничество как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни, – совсем не то, что народничество как социальное учение, указывающее путь „ко всеобщему благополучию“» (Избранные философские произведения, т. V. М., 1958, с. 71).
, и особенно через журналы и газеты, как тогда говорилось, определенного направления. Конечно, священником полнокровный, общественно активный и склонный к художественному видению мира Крюков не стал, ему ближе была муза «мести и печали», нежели духовная проповедь. Однако молодые порывы и симпатии нашли-таки отражение в творчестве и ранних и зрелых лет («К источнику исцелений», 1904, «Воины-черноризцы», 1911, «Без огня», 1912, «Сеть мирская», 1912, «О пастыре добром», 1915, и др.), – и прежде всего в характерах близких к народу, душевно чутких священников, монахов. Один из обаятельных образов – воина-священнослужителя – нарисован Крюковым в последнем очерке-воспоминании: его земляк Филипп Петрович Горбаневский в трудную минуту боя – с крестом в руках – пошел впереди атакующей цепи и пал смертью героя вместе с другими офицерами и солдатами.
Читать дальше