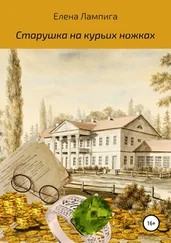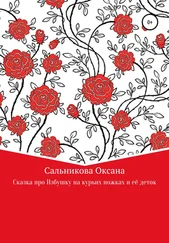Глеб Иванович Успенский
Избушка на курьих ножках
( продолжение предыдущего )
– Подумаешь, подумаешь, – какой еще жизни надо нам от бога просить, окроме крестьянской, ежели только бы мало-мальски благополучно утвердиться?
Вслух сделав этот вопрос, возница мой не дал на него никакого определенного ответа, а только глубоко вздохнул, хлестнул лошадей и опять замолчал. Мы оба молчали с ним и оба много думали молча, возвращаясь после «осмотра двора» домой. И было о чем подумать нам обоим. Он – бедный крестьянин-труженик, много видевший на своем веку, – с глубоким благоговением смотрел на благосостояние двора, в котором будут жить и хозяйствовать будущие молодые, здоровые и веселые муж и жена, и то, повидимому, вполне возможное удовлетворение всех самых широких желаний крестьянской мысли и потребностей, которое он видел в благосостоянии осмотренного нами крестьянского хозяйства, родило в его уме множество воспоминаний и дум, закончившихся многозначительным и глубоким вздохом человека, хорошо знавшего, в чем заключается крестьянское счастье, но не много видевшего этого счастья на своем веку.
Было о чем подумать и мне, не крестьянину. Осмотр двора, в котором будут со временем жить и хозяйствовать Сергей и Марфа, и на меня, человека постороннего крестьянским идеалам и желаниям, произвел впечатление не менее многосложное, чем на Михаилу. Хорошо, и всего в доме много; все есть: дом – полная чаша. Но, думалось мне, неужели же только на мысли или заботе о едином хлебе будет основан весь этот сложный обиход жизни, и притом жизни до конца дней? Мы пересмотрели каждую малость до косы, грабель, сохи и косаря включительно; все это потрогали «собственными» своими руками; переглядели зубы у каждой лошади, щупали у коров в боках, в ребрах; щупали что-то в шерсти живой овцы, даже в ее живое мясо запускали пятерни до того, что овца начинала протестовать блеянием. Всем сонмищем гостей, отцов, матерей и посторонних зрителей и любителей с удовольствием вязли мы по колено в жирных и глубоких пластах накопившегося в скотнике навоза и по чистой совести говорили слово «благодать!», если приходилось увязнуть выше колен; но в конце концов меня, как непривычного человека, начинало утомлять обилие трудовых приспособлений, обилие мелочей, обставляющих этот вековечный непрерывный труд – труд для одежи, «обужи», чтобы, приобретя то и другое, приобрести в, конце концов и кусок хлеба, а при его помощи опять же биться из-за одежи и из-за «обужи», и так жить до конца дней.
«Неужели же все это – о едином хлебе?» – не без страха перед ничтожностью суеты сует приходило мне в голову, по мере того как внимание мое все более и более утомлялось обилием хозяйственных мелочей. Я невольно припоминал свой собственный опыт деревенской жизни, притягивающий как отдохновение от суеты сует городской, и находил, что и деревенская суета сует не выработалась ни во что иное, кроме пустопорожнего недосуга.
Но едва мысль отрешалась от впечатлений, возбуждаемых обстановкою хозяйственного крестьянского двора, и прикасалась к тем впечатлениям, которые в городе побуждали меня иногда искать «отдохновения в деревне», как тотчас же воображение начинали осаждать такие воспоминания, от которых становилось несравненно страшнее, чем от утомляющих мелочей добывания крестьянского хлеба, крестьянской одежи и «обужи».
Между прочим совершенно неожиданно вспомнилась небольшая газетная заметка, которую я прочитал накануне во время дороги. В каком-то судебном учреждении, где были прокурор и адвокат, разбиралось дело о крестьянке (я забыл ее фамилию), обвинявшейся в небрежном отношении к своему ребенку. Дело заключалось в том, что ребенок был оставлен без надзора матерью-поденщицей в углу, который она занимала. В отсутствие матери, ушедшей на поденщину, ребенок влез на окно и по неосторожности свалился со второго этажа на мостовую двора, расшибся и, кажется, умер. Не могу припомнить, умер ли он или нет, но о его увечье был составлен протокол и препровожден куда следует. Без виноватого и протокол не в протокол. Привлечена была мать, виновная в таком нерадении, последствием которого было увечье ребенка и даже, кажется, его смерть. Прокурор требовал подвергнуть ее двухнедельному тюремному заключению; защитник был снисходительнее и покорнейше просил ограничиться штрафом в три рубля. «Последнее слово» обвиняемой состояло в том, что она просто только показала суду свои мозолистые руки, объявила, что, работая поденно за 30 копеек, она не может заплатить суду трех рублей и что если ребенок ее и расшибся, то потому, что брать его с собою на работу нельзя, а нанимать ему няньку нет средств. Все это оказывалось столь простым и удобопонятным, что обвиняемая, кажется, была оставлена без наказания.
Читать дальше