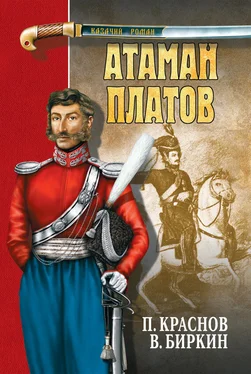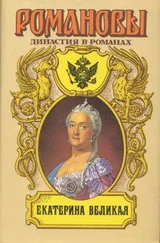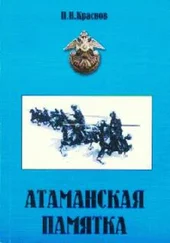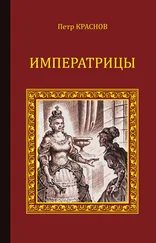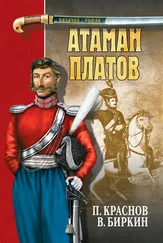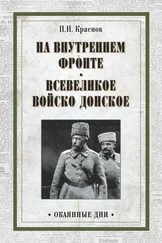И, выколотив о камень трубочку, он запел слегка в нос песню, потом сбился и затянул другую:
Не жалко эту дороженьку,
Что она запылена,
Только жалко эту девочку,
Что она зажурена!
Запылена эта дороженька
Буйными ветрами,
Зажурена девочка
Прежними друзьями.
Дурак-казак девчоночку
Журит, бранит не за дело,
А за самое бездельице —
За коника вороного!
Казак коника пытает:
«С чего коник зажуренный?
Овес, сено у тебя все целое,
Ключевая вода не почата?
Али ты, мой конечек,
Чуешь походы дальние?»
– Мне не страшны, мой хозяин,
Твои походы дальние,
Только страшны, мой хозяин,
Корчомочки частые,
Еще страшнее, мой хозяин,
Девчоночки молоды!
Кончил песню Жмурин, сплюнул на сторону и замолчал.
– Да, – протянул Зайкин. – не след казаку любить бабу!
Жмурин ничего не ответил.
– Конь – другое дело, – продолжал философствовать Зайкин, конь выручит, вызволит – конь, одно слово, лошадь, а баба – баба и есть.
Жмурин хитро посмотрел на Зайкина, но опять смолчал.
– Жену ли любить, полюбовницу ль, все одно – не христианское, не казачье это дело! Потому жену черт создал на соблазн роду человеческому Ты глянь-посмотри: иде баба – там скандал. Слышно, до Расеи Наполеон не любил баб и везло ему страсть, а нонче, слышно, завел любушку – и конец. Верно я говорю.
– Ах ты, Зайкин, Зайкин! Брехун ты, одно слово. А чего ж ты детей-то ласкаешь, дети-то бабья пакость аль нет? Знаю тебя – ты хоть старой веры, а с Эммой вчера хороводился, ты гляди, посмотри, кабы у Карлуши да Фрица на летошный год черноволосые братцы не пошли.
Смутился Зайкин.
– То-то и баба! А я страсть по жене соскучился! – искренно воскликнул Жмурин. – И когда это походы кончатся! Замечательно – второй год воюем, и все больше насчет отступлений. Как зима – по холодку вперед, как лето – назад. И победим, да отступаем! А мне повидать жену страсть хочется… Что, Заметьте, сыт, что ль? – обратился он к лошади. – Сейчас.
Он слазал наверх за сеном и разостлал его на телеге перед лошадью.
– Слухай, Зайкин. Что, правда, что у барина нашего был святой конь, что жизнь ему спас?
– Брешут.
– А был-таки конь?
– Был-то был. Важная лошадь. Вороной без отметин, гордый, нарядный и тоже ласковый конь, все одно как Заметьте.
– Где же он теперь?
– Замерз близ Соловьева. Надорвался и упал в снегу.
– Вот и сказывали, будто ехали на другой день казаки в партии, глядят, на снегу сияние какое, подъехали ближе; мертвый конь лежит, а под ним его благородие, чуть живой.
– Сияния не было, а что его благородие под конем отогревались – это правду говорили, это что же.
– А я слыхал, что сияние.
– Мало ль что брешут! Може, набор тогда горел на солнце.
– Сказывали, и солнца не было.
– Ну, все одно брехали… А може, и так! Бог-то велик. Одно точно знаю; нашли его под конем, конь мертвый, а он живой!
– И за то ему сотника дали!
– За то, не за то ли – не знаю. А дать следовало. Потому храбрее нашего Пидры Микулича не сыскать!..
– Да, – протянул Жмурин, – бывает… Глянь, Каргин Мельниковского полка с хозяйской дочкой путается.
– Ему хорошо, он по-ихнему знает. Тоже образовательный человек, барин, а простым казаком ушел. Война-то что значит!
– От жены, сказывали, ушел…
– Мало ли что говорят.
– Гретхен! Гретхен! – закричали мальчики и побежали от Зайкина. – Komm her! Sieh welche Sabel! [53]
– Ax вы, братцы мои! – ласково сказала им красивая полная немка, шедшая с казаком.
– Слушайте, Николай, скажите вашим товарищам, что на обед пора.
– Вы меня любите, Гретхен?
– Скажите, я вас прошу, вашим товарищам, – не обращая внимания на его вопрос, говорила немка, – сосиски простынут.
– Что мне сосиски! Любите?
– Вот пристали! Вас нельзя любить. Вы казак, вы фюйть – и на войну. А я тосковать буду. Сраму на весь приход! Скажите, пожалуйста, вашим товарищам!
Но Каргин молчал.
– Ну, я сама скажу. «Казакен, подить эссен, ну, зо!» – и она показала пальцами, как едят.
– А, спасибо, спасибо! – встрепенулись донцы.
– Данке! – сказал потершийся в корпусе Блюма Жмурин и побежал напяливать мундир.
К обеду, собранному в чистой передней горнице, вышел и офицер атаманского полка сотник Коньков.
Казаки встали.
– Садитесь, братцы, скучно мне одному, я с вами пообедаю.
– Хлеб да соль, ваше благородие!
– Вы говорите между собой, не стесняйтесь, – сказал Коньков и стал вяло есть.
Он оправлялся, но медленно. Если бы за ним был уход как следует, если бы ходила и баловала его нежная рука любящей женщины, быть может, он бы и скорее оправился. Но к грудной боли, к тяжелому хриплому кашлю, к боли отмороженных рук и ног присоединилась страшная тоска за Ольгу, за ее жизнь и существование.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу