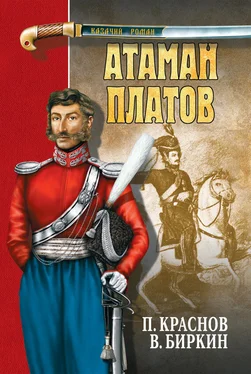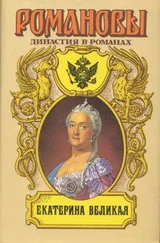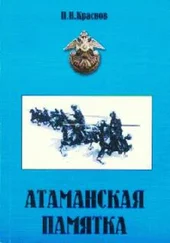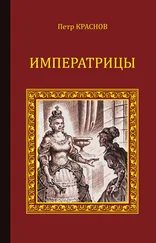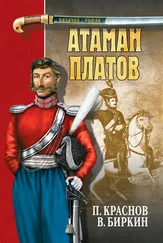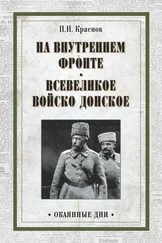Анна Сергеевна была уверена в благородстве Николая Петровича и не ошиблась.
Через полчаса, не больше, пир после некоторого затишья снова пошел на весь мир. Гости пьяными голосами орали свадебную песню:
Ты не бойся, матушка, не бойся,
В червонные чеботы обуйся;
Да хоть наша Машенька молода,
Да вывела матушку со стыда.
Маруся, полумертвая от стыда, сидела рядом с раскрасневшимся, счастливым Каргиным.
Дружко, от имени князя и княгини, обносил гостей караваем, украшенным серебряным лебедем и золоченой сосенкой и убранным сыром, и приговаривал:
– Прошу сыр-каравай принимать и молодых наделять.
Гости клали на блюдо деньги, близкие родные: Зимовнов, Денисов – одарили Каргина землей, лошадьми и овцами.
Веселье, на минуту было притихшее, пошло по-старому. Зеленков провозгласил здоровье Государя Императора, потом здоровье атамана, благоденствие всевеликого войска Донского, за победы русского оружия.
Гости кричали громко «ура», залпом опрокидывали объемистые чарки и наливали еще и еще. У иных молодых хорунжих и урядников голоса хрипели, как у петухов. Оживление стало полное.
С разных концов стали кричать: «Речь! Речь!» – и седовласый Денисов поднялся.
– Помолчи, честная станица, – гаркнул Зеленков. Шум перекатился и смолк на краю стола. Старческим, сиповым голосом заговорил безногий полковник:
– Желаю здравствовать князю молодому с княгинею, княжему отцу, матери, дружку со свахами и всей честной компании на беседе, не всем поименно, но всем поравенно, что задумали, загадали, определили, Господи, талан и счастье слышанное видеть, желаемое получить, в чести и в радости нерушимо.
Гости хором крикнули:
– Определи, Господи!
Денисов хотел было продолжать, но на дальнем конце стола чей-то могучий пьяный бас протянул такое «ура», что не выдержали гости, и стоном прокатился крик по комнате.
Молодой казак, с пухлым, мятым лицом, хотел было провозгласить тост за «madame Рогову и ее потомство», но его так зацукали, а сосед-урядник так всадил ему кулак в бок, что тот только бессмысленно замычал и, захмелев окончательно, скатился под стол.
Пир длился до полночи.
Было уже совсем темно, когда слуги и казаки разбирали господ и разводили и развозили гостей по домам.
Захолонуло тогда Марусино сердце. Знала она, что упрям и жесток старик-«письменюга», знала и то, что недалеко яблоко от яблони падает, как скользнул хмурый взгляд ее мужа по богатым, серебром разукрашенным плетям, будто выбирал, какую покрепче, поняла она, что при гостях сдержался Николай, и задрожали у нее колени.
Сердито взглянул на нее Николай Петрович.
– Ну, пойдем.
Они прошли в дальние горницы: он впереди, она, бледная, покорная, сзади…
– Садись! – сказал он ей.
Она с рыданием кинулась ему в ноги.
– Бей, накажи меня… Ей-Богу, я не виновата!
– Зачем не созналась?
– Как же сознаться! Пощади ты меня…
– Ах, Маруся, Маруся! Верил я тебе, словно солнцу красному, мечтал о тебе дни и ночи, за что загубила мое счастье? Ведь видел я и слышал и не верил. Думал: было бы – так созналась бы мне. Маня моя, славная, дорогая… А теперь… Прочь от меня… Подлая тварь!
Бледная встала Маруся и, рыдая, бросилась на постель.
Каргин прошелся по комнате и вдруг вспомнил, как ходила за ним, пьяным, Маруся, как видались они в Черкасской церкви, и размягчилось сердце, и простил он ее, но только чувствовал, что жить с ней не может.
Пропала куда-то любовь, ушла далеко-далеко, безвозвратно, и осталось одно отвращение, ненависть, да еще, пожалуй, жалость…
– Не плачь, негоже. Я прощаю тебя. Бог тебе судья! Только уйду я в армию, в поход, поступлю куда-либо в полк и забуду тебя!
И первый раз, казалось, решение его вступить в полк было твердое, безобманное.
И, шатаясь и чувствуя, как все пропало для него, словно потерял он что-то дорогое и драгоценное, прошел он в холостую, кунацкую комнату и, не раздеваясь, проспал там до утра.
Когда же настало холодное сентябрьское утро, он поседлал коня и выехал на площадь. Там атаманский адъютант громко и отчетливо читал приказ всем атаманам и казакам выезжать поспешней на сборные пункты и следовать к Москве на защиту России и приобретение новой, небывалой по величине славы всевеликому войску Донскому.
Дней через десять, в конце сентября, двадцать новых полков, разношерстных, одетых в свое домашнее платье, спешили к Тарутинскому лагерю.
Дон, по призыву своего атамана, напряг последние силы и выставил еще десять тысяч человек. Тут были и убеленные сединами старцы, и малолетки, еле справлявшиеся с лошадьми, шли они, движимые желанием заслужить славу своей родине, шли за Платовым, как некогда предки их шли за Пугачевым и Ермаком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу