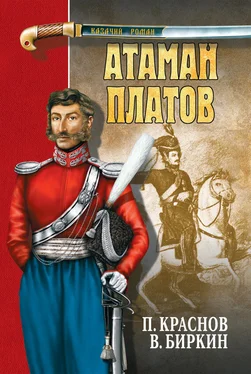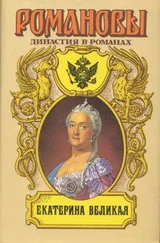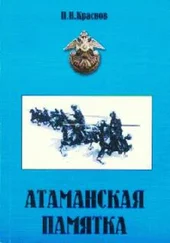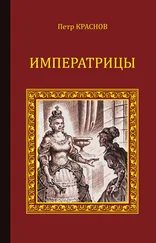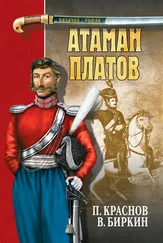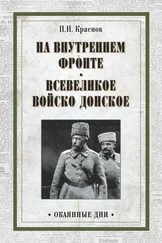– Это был казак из казаков еще старого закала. С казаком был прост, с иногородними вежлив. Он был умен, я вам скажу, любил свой Тихий Дон и понимал его хорошо. Он умел вовремя сказать казаку два, три слова «приклятых», а уж, я вам скажу, казак и понял и уже охотнее идет за ним потому, что чует в нем своего. И пером он зря не баловался. Ведь есть такие разумники, что читают газету от строки до строки, а книгу от крышки до крышки, да и думают, что уж и такие-то они разумники! Дай, думают, подслужусь-ка я к регулярным да напишу что-нибудь! Возьмут и забудут про казака, а казака грех забыть. Я вам скажу, что таких много, что в регулярстве полагают свое счастье, а регулярные их и знать не хотят. А Пидра Микулич, мой лихой ординарец, я вам скажу, был не такого закала человек. Он все отдаст казаку, любит лошадь без ума и любил вас, до поразительного любил вас. Я вам скажу, больше любить даже и невозможно. А наездник какой он был, я вам скажу, просто роскошь! Как влитый сидел в седле. Ну, да, видно, судил его Бог наградить иначе, чем мы решили. Высок он был для земного счастья и слишком честен. Тоже таким-то на земле ужиться не легко! Бог, я вам скажу, и отозвал его на небо!
Ольга Федоровна плакала. Платов подошел к ней и погладил ее нежно по голове.
– Отчаиваться и горевать, я вам скажу, не достойно умного и хорошего человека. Зачем плакать? Давайте, Ольга Николаевна, Ольга Федоровна, – поправился Платов, – поедемте молиться Богу и отслужим по нему панихиду. Я вам скажу, это будет угодное Богу дело и его оно порадует там, на том свете.
Ольга Федоровна молча кивнула головой. Эта панихида была как бы подписанием ею приговора, которым подтверждался факт смерти жениха. Они вышли вдвоем из комнаты; Платов, как придворный, галантный кавалер, пропускал ее всюду вперед, ординарцы поспешно вытягивались, казаки кинулись отворять двери. Клингель, бледная, задумчивая, шла впереди, атаман, тоже взгрустнувший, немного сзади.
– Тройки мне не подали, на гитаре нам вдвоем, я вам скажу, ехать неловко, пойдем пешком, – и Платов предложил ей руку.
По поводу этой прогулки среди петербургских сплетников разговору было много. Старик атаман в мундире (он собирался во дворец), в кивере, с жалованным бриллиантовым пером, с светло-синим шлыком, шел под руку с хорошенькой девушкой. Но Ольга Федоровна, поглощенная думами, не замечала, как вытягивались, делая фронт, встречные солдаты, как почтительно козыряли офицеры, как оглядывалась и переговаривалась вольная публика.
День был ясный, торжественный, майский; на Морской и на набережной народу было много, и все обращали внимание на мирно идущих: донского атамана и хорошенькую барышню. А у них были свои мысли, свои воспоминания, свои грустные соображения.
Нева в гранитном уборе горела, млея на солнце и отражая снопы лучей. Ялики сновали по всем направлениям. Изредка показывался ботик с любителями, с чуть надутым парусом, плавно скользивший по воде. Крепость отражалась в воде серыми стенами и зелеными воротами. Шпиль Петропавловского собора горел на солнце, и звучно играли куранты. Мгновеньем прогремит карета, запряженная четверкой цугом с лакеями в ливреях, высунется в окно старенькое лицо, посмотрит на Платова, и опять окружает их только шелест ног да шорох праздничного города.
Атаман взял ялик, и, переплыв через Неву, они прошли в собор. Гулко отдавались их шаги в громадном соборе. Торжественно смотрели на них серые запыленные знамена.
Платов кивнул на них и сказал:
– Есть тут и мои, я вам скажу.
Ольга Федоровна молча взглянула, и странная мысль мелькнула у ней в голове: «И стоило ради этих доспехов, которые можно еще лучше и дешевле сделать у себя, разбивать счастье людей. Зачем война?» Но высказать свои мысли она не рискнула.
Сторож привел священника, хромой дьячок вошел на клирос.
– Убиенного Петра? – спросил священник Платова, подавая тоненькие свечи атаману и барышне.
– Да! – коротко ответил Платов.
Дребезжащий голос священника раздался в алтаре.
– А-минь, – нараспев ответил дьячок, и служба началась.
Когда дошли до слов «со святыми упокой», Ольга Федоровна опустилась на колени. Ей хотелось плакать. Полутемный собор был тих и мрачен, дьячок тихо пел: «Со святыми упоко-ой, Христе!..» – «Душу раба твоего», – подтянул из алтаря нежным тенором священник. «Идеже несть болезни, печали, ни воздыхания», – пел рядом с нею Платов, и не выдержала Ольга Федоровна и залилась слезами.
Душа Ольги Федоровны размягчилась: ей казалось, что на ее раны налили что-то такое мягкое, нежное, отчего они залечились. От любви к Конькову осталась только тихая грусть и сладкое воспоминание о невозвратно потерянном.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу