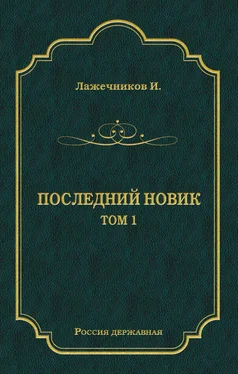– Дело не в том, отец Плиний из Веттина! [247] Шлиппенбах иронически сопоставляет Глика со знаменитым древнеримским писателем и государственным деятелем, блестящим оратором Плинием Младшим (ок. 62 – ок. 114).
– перебил Шлиппенбах, потягиваясь и передразнивая пастора в любимой его поговорке, – дело не о вашем возлюбленном Алексеевиче, которого новый толчок шведским прикладом, сакрамент, подобный нарвскому, отобьет от кукольных его затей. Мы спрашивали вашего мнения насчет беглеца Паткуля.
– Виноват, господин генерал-вахтмейстер! виноват, я несколько отдалился от заданной темы. Что касается до высокоименитого Иогана Рейнгольда Паткуля, то я должен предупредить о следующем. Знаменитые юристы галльские, в том числе сам Христиан Томазиус [248] Томазиус Христиан (Томазий) (1655–1728) – немецкий философ и юрист.
, это солнце правоведения, и, наконец, лейпцигская судейская палата решили до меня чудесный казус, постигший именованную особу, то есть: имел ли право верноподданный его величества желать сохранить себе жизнь и честь, отнимаемые у него высшим приговором, и предложить свое служение другому государю и стране? был ли приговор шведского суда справедлив и прочее? Галль, Лейпциг, Томазиус решительно оправдали его на немецком и латинском языках в известной дедукции, изданной in quarto [249] В четверть бумажного листа (лат.).
прошлого, тысяча семьсот первого года февраля пятнадцатого дня. После того мы, сидящие на последней ступени храма Фемидина [250] Фемида – богиня права и законного порядка; как символ беспристрастия изображалась с повязкой на глазах (греч. миф.).
, какое посмеем сделать определение? Разве примолвим: головы, подобные Паткулевой, надо государям беречь, а не рубить. Правда, нелишним будет еще упомянуть, что в пятом и восьмом пунктах известного адреса он не имел аттенции к юриспруденции, и сожалеть надо, что он не посоветовался с людьми знающими. Вот, например, если позволите, я докажу из конспекта моего…
Здесь пастор вынул из бокового кармана тетрадь в золотой обложке и хотел было почерпнуть в ней свидетельство доводам своим; но генерал, махнув повелительно рукою, сказал:
– До другого времени, отец-юриспрудент и оратор из Веттина! Сакрамент, маменька, лагерный час обеда пробил!
– До обеда я имею еще важное дело вам передать, – возразила баронесса, – оно касается, как я сказала давеча…
– Прошу уволить, высокопочтенная баронесса! – перебил генерал. – Мы поедим, попьем, поспим и тогда примемся за важные дела. Но если для лучшего аппетита необходимо привесть в движение механизм языков, то попытаемся заставить говорить вашего почтенного свата. Гм! например, господин барон Фюренгоф, что бы вы, добрый лифляндец и верноподданный его величества, что бы вы сделали, встретив изменника Паткуля (генерал посмотрел на Красного носа) в таком месте, где бы он мог быть пойман и предан в руки правосудия?
На вопрос Шлиппенбаха язык Фюренгофа прозвучал подобно колокольчику, сжатому посторонним телом:
– А-а, господа!.. что до меня… то я, конечно… вы знаете мою преданность его величеству… но я не знаю, известно ли вашему превосходительству, что он… хотя… но он…
– Кто он? – спросил резко Шлиппенбах.
– Как доложить вашему превосходительству, не смею…
– Вы, дядюшка, хотите сказать, что Паткуль ваш родственник, – подхватил Адольф, – и не имеете духа выговорить это.
– А-а, Адольф, любезный друг, так же как и тебе; но ты знаешь, что я плохой оратор, и ты помог бы мне, когда бы объявил свое мнение, свои чувства.
– Вы меня вызываете к ответу, и я дам его, – сказал с твердостью Адольф. – Солдатский ответ короток. Если я, как рядовой воин шведской армии, встречу Паткуля посреди неприятелей, то не пощажу о него благородной стали. Уничтожить жесточайшего врага моего законного государя почту тогда особенною для себя честью. Но, – прибавил Траутфеттер с особенным чувством, – если б я нашел его беззащитным, укрывающимся в отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, оросил бы ее слезами благодарности, и горе тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою!
– Зараза везде проникла! – воскликнул со вздохом Шлиппенбах. – Тяжкие, горькие времена!
– Благородный молодой человек! – сказал в то же время Зибенбюргер со слезами на глазах. – Кто в эти минуты не желал бы быть Паткулем, чтобы обнять вас? Жаль, что возвращаюсь из Московии, а не еду в нее; а то с каким удовольствием рассказал бы я ему, что он имеет еще в Лифляндии соотечественников, друзей и родного.
Читать дальше