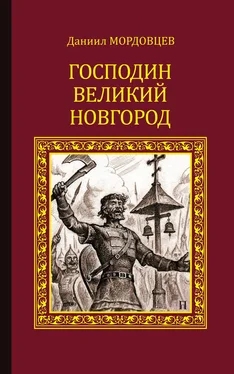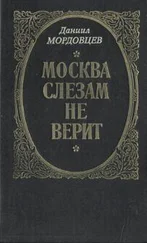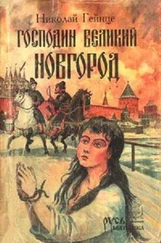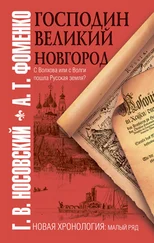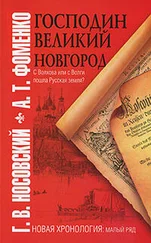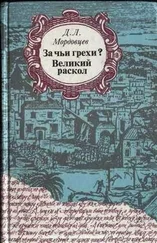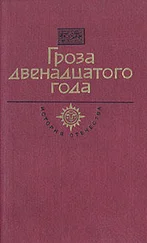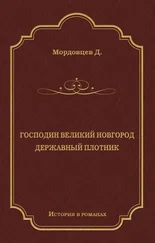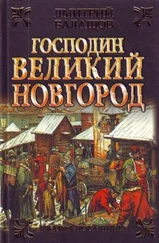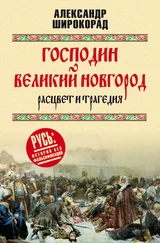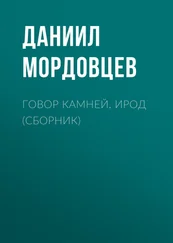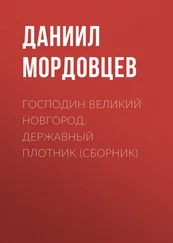Что теперь представляет собой Господин Великий Новгород? Жалкий губернский городишко, занимающий, может быть, десятую долю своих обширных развалин. Он изображает отчасти то, что говорила якобы на вече Марфа-посадница, которой Карамзин влагает в уста следующую цветистую речь: «скоро ударит последний час нашей вольности, и вечевой колокол, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бедному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!.. Но знай, о Новгород, что с утратой вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда новгородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся… Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные концы твои; широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: здесь был Новгород!»…
Конечно, Марфа-посадница не могла говорить так, но все, что она могла говорить другими словами, сбылось…
Эти последние дни независимости Господина Великого Новгорода и составят предмет нашего повествования.
Мягкое морозное утро 15 ноября 1470 года [5] Автор сознательно вводит анахронизм, так как современное летосчисление от Рождества Христова было принято на Руси только в 1700 г. До этого же вели счет «от сотворения мира». Тогда это – «…утро 15 ноября 6978 года».
.
На колокольнях новгородских церквей раздается торжественный трезвон. Под этот трезвон горожане из церквей и домов валят на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по льду, и по «великому мосту» – кто успевал раньше других попасть на мост.
Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без того полные народа, окончательно запружены были колыхавшимися массами. Народ толпился и в улицах, и по всему Детинцу, но целое море голов колыхалось около собора.
У Святой Софии только что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обращены были к паперти – ждали…
Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступеньках соборного крыльца и около него стояли старосты «концов», сотские и десятники, поблескивая на солнце бердышами. Среди них терся слепой нищий, известный всему Новгороду Тихик блаженненький – «Христа ради юрод» и, за неимением глаз, духом своим «провидящий вся сокровенная». Он прикасался то к тому, то к другому из старост и сотских, тряс косматою, нечесаною головой и идиотически улыбался. В руках у него была длинная палка – посох с ручкою в виде восьмиконечного креста [6] Восьмиконечный крест – бывший в Русской православной церкви до реформ Никона. На традиционном для всех христиан четырехконечном кресте еще две перекладины: вверху с титлами («винами» распятого Христа), внизу перекладина-подножие – символ «Мерила праведного», весов Суда Божьего, указующего на два возможных пути, рая и ада, для каждого.
, на котором висели различной величины сумки. Две большие сумы перекинуты были, посредством ремней, через плечи, крест-накрест.
Наконец, из соборных дверей вышел на паперть священник в полном облачении и с крестом в руках. За ним показалась седая голова с золотою гривною на шее. Священник осенил крестом народ на все стороны – и тысячи рук замахали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немого согласного движения тысяч глухой гул прошел по площади и по всему Детинцу.
– Братие новугородьци! – раздался с паперти скрипучий старческий голос. – Жеребий Господень совершается! Молитеся святой Софии, да укажет перст Божий на достойного владыку.
Тысячи рук снова взметнулись, и снова глухим гулом – немая молитва по всему Детинцу…
– Сыщите, братие, Тихика блаженного, – снова раздался тот же старческий голос.
– Тихика!.. Тишу блаженненького! – пронесся говор в толпе.
– Здесь Тихик, здесь блаженный…
– Я тутотка, – отвечал сам нищий, ощупывая посохом землю и подходя к паперти. – Туто изгой Тишка… Подайте Христу!
Читать дальше