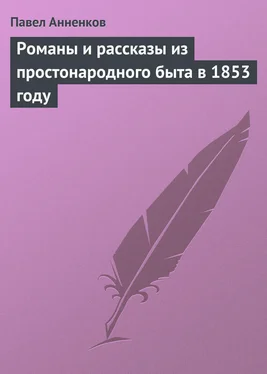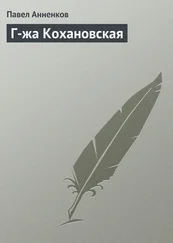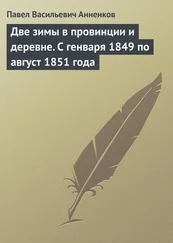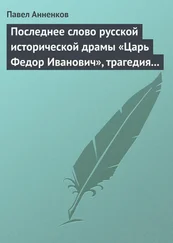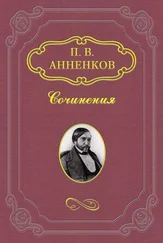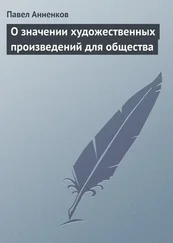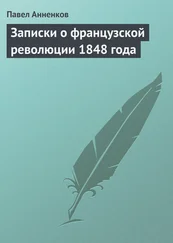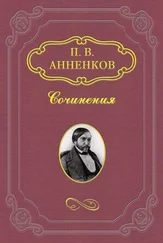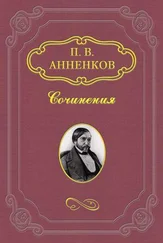Идиллия однако же не исчезает даже и с появлением художественной идеализации. Всякий раз, как встречаются у автора пробел, сомнение, темный вопрос, показывается идиллия и вступает опять во все права свои. Она служит готовым балластом для наполнения тех пустых мест, которые остаются от недостаточности положительных сведений, от невозможности отыскать истинную причину события и истинные последствия его, а наконец от стремления к поэтическому освещению предмета, когда не найдено ему внешнего освещения под рукой. В последнем случае выдумки идиллии, все ее опыты увеселительной физики, разноцветные огни и фосфорические сияния пригодны как нельзя более. Все хорошо, что только несколько освещает потемки. И мы видим, что в самых замечательных произведениях из простонародного быта еще не обходится без идиллии, и что она присутствует там как ясное свидетельство неполного знания дела и неполного обладания предметом.
Есть однако ж идиллист по преимуществу, к которому невольно стремятся симпатии читателя. Мы говорим о г. Кокореве, так рано похищенном смертию у русской литературы. Рассказ его «Саввушка», появившийся еще в 1852 году, выражает вполне этого замечательного писателя, не успевшего сделать всего, что он мог сделать. В рассказе есть места, показывающие такое близкое знакомство с русской жизнию, какое не часто встречается. Всего замечательнее, что подобные места у г. Кокорева являются уже почти без примеси искусства, без ученой, систематической постановки, без преднамеренного литературного расчета, чем писатель этот и отличается от всех своих собратов. Места эти выдались сами по себе, развитие получили от собственных сил, насколько достало их, из себя почерпнули весь свой эффект, и не видно, чтоб автор заботился о том, как бы ловчее показать их людям. Из многих таких мест упомянем об одном, но, может быть, лучшем из всех: о сценах в заведении «Старая Изба», распивочной близ Сухаревой башни, на Самотеке. Пусть читатель проверит наши слова, пробежав эту оживленную картину, которая может служить даже отчасти историческим материалом впоследствии. Из нее, например, будущий описатель нравов заметит, что в известную эпоху городские романсы и цыганские песни начали спускаться в народ, отпетые и забытые в других кругах. Он увидит также, каким образом они начинают мешаться с чисто национальными произведениями в столицах, а оттуда, вероятно, идти и еще далее; да и многое другое может он еще заметить как в этом месте, так и в других. Если в каждом из лучших современных наших писателей есть любопытные этнографические данные, на которые не мешает иногда взглянуть и строгой науке, то, конечно, ни у кого покамест их нет более г. Кокорева. К несчастию, писатель этот совершенно был подавлен идиллею. Саввушка его, сперва разгульный ученик портного, потом не совсем счастливый муж, а потом еще менее счастливый портной, служит провидением для одного бедного семейства, где пьяный муж сводит жену в могилу и сам пропадает. От них остается дочка Саша, порученная ему, Саввушке, которую он пристроивает к какой-то тетушке; но девушка сманена шарманщиком и скрывается. Саввушка ноет и горюет до тех пор, пока в «Старой Избе», о которой упоминали, встречает Сашу, в костюме мальчишки, пляшущую и распевающую для гостей «Избы». Тут поднимается Саввушка, выхлопывает у разных людей деньги – на заплату долгов Саши, преодолевает ее собственные дурные наклонности, заманив ее раз на могилу матери и там усовестив ее, потом берет ее на воспитание, воспитывает тщательно, добивается своей любимице шереметьевской премии для бедных невест и наконец выдает ее замуж за молодого, прекрасного часовщика Петра Васильевича…
Все это течение рассказа в ярком, радужном и однообразном колорите, конечно, утомляет глаз читателя, который весьма рад, когда от времени до времени прорывается эта чересчур светлая, неестественная атмосфера, и показывает вдали клочок земли с настоящими людьми и с настоящей природой: но у г. Кокорева есть неоцененное качество, спасающее его даже и тогда, как он плывет в водах идиллии, мимо фантастических берегов, к которым пристать нельзя. Идиллия у него не щегольство, не манерный показ своих авторских приемов и даже не способ вывернуться из трудного обстоятельства, что так часто бывает. Идиллия у него есть дело сердца, и он сам верит в нее. Вы ясно видите, что автор вместе с героем своим Саввушкою бегает по чужим домам, отыскивая способ выручить Сашу из порочной атмосферы, вы видите, что он вместе с ним плачет над неудачей и переживает с ним каждую его радость и каждую его печаль. Когда приводит он Саввушку и его питомицу к пристанищу, или лучше в какой-то сказочный Храм Славы, он весьма далек от мысли устроить им эффектное помещение на удивление другим. В нем живет только глубокая потребность видеть их безмерно счастливыми, выразить собственное свое чувство любви к ним и найти успокоение сильно взволнованному сердцу. В этом семейном торжестве автора едва-едва заметно участие искусства: так сильно поглощены все другие требования одним главным, которое всегда и стоит на первом плане. Конечно, идиллия остается по-прежнему идиллией и не переходит от этого в поэтическую идеализацию происшествия, но за ней все-таки светится жизненная истина, выражаемая душевным настроением автора, и теплота чувства, разлитая по ней из этого источника сообщает ей силу впечатления, которой она без этого никогда бы не имела.
Читать дальше