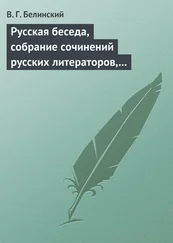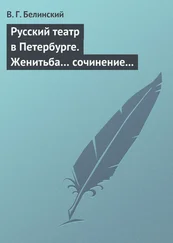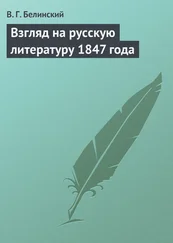Надо еще сказать, что эта критика имела что-то вроде самобытного мнения, не чужда была эстетической образованности и вкуса, наскоро читала все, что писалось за границей, и наскоро перелистывала, во французских переводах, почти всех европейских писателей. Это давало ей огромный перевес над людьми старого поколения, которые были хорошо знакомы только с французскими писателями XVII и XVIII века, глазами которых смотрели на писателей Германии и Англии, но сами их никогда не читали или читали в водяных французских переводах того же XVIII века. Таким образом, ложная мысль, что искусство есть украшенное подражание изящной (а не низкой) природе и что сочинять значит подражать какому-нибудь прославленному писателю, особенно из древних, – эта ложная мысль была первым и главным догматом их эстетического корана. Романтическая критика в особенности устремилась на подражание, и если теперь поставить в заглавии своего сочинения: подражание тому-то или такому-то, значит заранее убить свою книгу, лишив ее читателей (так же, как прежде значило – заранее расположить и критику и публику в пользу своей книги); это дело – заслуга романтической критики. Так называемые русские классики больше всего боялись иметь какое-нибудь свое собственное оригинальное мнение и больше всего старались думать и говорить, как думали и говорили прежде их и как думали и говорили в их время все: романтическая критика сделала то, что теперь каждый скорее решится высказать странное мнение, нежели повторить чужое. О движении современных европейских литератур классики не имели никакого понятия: романтическая критика по-своему следила за ним и озадачивала классиков новыми именами и новыми идеями.
Повторяем: все эти заслуги романтической критики важны и велики; но этим только они и оканчиваются, тогда как она претендовала на что-то гораздо важнейшее и большее. Так называемые ее высшие взгляды были не чем иным, как верхоглядством; ее многосторонность и всеведение – эклектическим энциклопедизмом; ее философия – ошибочно понятыми и неверно повторенными чужими речами. Явившись в эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было все отрицать, нежели что-нибудь утверждать в области русской литературы, обладая более практическою, нежели теоретическою способностью действовать и не поняв исторически умственного движения в современной Европе, – она все, делавшееся в европейских литературах, целиком думала перенести в русскую и потому впала в самые смешные ошибки. – Французов, у которых после Декарта не было уже и признаков философии как науки, – французов увлек эклектизм Кузена, и они добродушно признали этого краснобая великим философом. Русская романтическая критика в этом исключительно французском, следовательно, совершенно частном явлении, увидела явление мировое, и когда даже наши доморощенные критики, поняв нелепость эклектизма, начали посмеиваться над Кузеном, а во Франции он уже совершенно пал, – романтическая критика тут-то и принялась с особенным усердием кадить гению Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, что эклектизм есть не философия, а чистое и прямое отрицание философии, и что эклектический философ есть то же самое, что холодный огонь или огненный холод, и что основание эклектизма, как учения мертвого и неорганического, составляет мыслекрадство и шарлатанство. После того, как Кузен переправил посмертные сочинения своего ученика Жоффруа и вписал в них похвалы себе и своей философии, тогда как Жоффруа прямо отвергает эклектизм как нелепость, и после того, как эта шулерская проделка эклектического философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знает, что Кузен шарлатан? – Познакомившись с новым историческим направлением во Франции, романтическая критика целиком перенесла идеи Гизо, Тьерри и Баранта о противоположности галльского элемента с франкским, как непосредственного источника всей последующей истории Франции, о борьбе общин с феодализмом и важности среднего сословия в новой европейской истории, – все эти идеи, выведенные из совершенно чуждых нам фактов, романтическая критика целиком перенесла в историю русского народа. Нападая на Карамзина, оспоривая его в каждой строке, она, бедная романтическая критика, и не замечала, какую смешную играла роль, отыскивая в русской истории совершенно чуждый ей смысл и меряя ее события совершенно чуждым ей аршином. И мудрено ли, что факты в ее истории остались те же самые, какие находятся в истории Карамзина, с прибавлением не идущих к делу высокопарных умствований, взятых напрокат у чужеземных мыслителей, – и еще с тою разницею, что история Карамзина написана языком блестящим, художественно обработанным, хотя и искусственным, а история романтической критики написана языком пухлым, многоречивым, фразистым, темным, неопределенным, – не по безграмотности романтической критики (в которой ее тогда упрекали враги ее), а по неопределенности идей, невольно отразившейся и в языке. Карамзин увлекся идеею московского царства, созданного Иоанном III, как высочайшим идеалом государства: кто может разделять этот энтузиазм Карамзина, тот в его истории найдет именно то, чего в ней должно искать и что в ней действительно есть, потому что Карамзин со всею добросовестностью, во всей истине исполнил свое дело, не искажая ни одного из фактов. Романтическая критика в своей истории, волею или неволею, показала тоже московское царство (потому что против очевидности фактов нечего делать), но только с какими-то теоретическими атрибутами, которые относились к нему, как масло к воде. {14}
Читать дальше