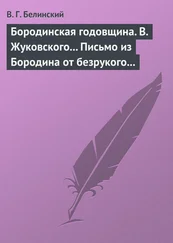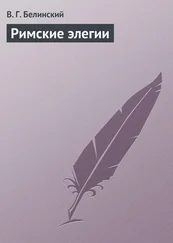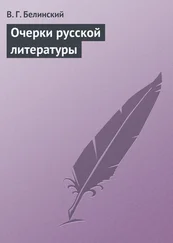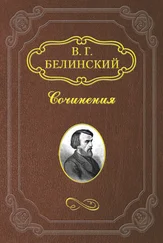Мое почтение Александру Михайловичу и Варваре Александровне. {117}
Мой адрес: На Васильевском острове, во 2 линии, против Академии художеств, в доме Вема, квартира № 7.
Бога ради, пишите ко мне, а я, ей-богу, буду аккуратно отвечать. Прошу, милый офицер и молодой глуздырь, писать поразборчивее и (если можете) с знаками препинания, и с должным вниманием к роковым буквам ѣ и е. Ваш всею душою и всем сердцем – Orlando furioso, [10]<���иначе> [11]
В. Белинский.
Языков и Панаев Вам кланяются. Они, особенно последний, часто и с любовию вспоминают о Вас.
Жалко, что остается так много белой бумаги. Видите, какие огромные письма пишу, и судите, чего мне стоит написать письмо. Привычка вторая натура – вся жизнь моя в письмах. Недавно заглянул в кипу моих писем, возвращенных мне М<���ишелем>, и был поражен: боже мой, сколько жизни изжито, и всё по пустякам! И какую глупую роль играл я, как много было во мне любви и как мало благородной гордости! О молодой глуздырь, – не попархивай: смотрите на нас старичков и поучайтесь.
Ах, как бы мне хотелось увидеться с Вами в Питере, поспорить, побраниться, как живо я вижу теперь перед собою Вашу отвратительную физиономию, в которой, впрочем, мне кое-что и нравится, особенно улыбка. Как Ваша служба? Хороша ли наша действительная жизнь? – Ну, смотрите же: обо всем, обо всем, и как можно больше, а то рассержусь на Вас. Если не будете писать ко мне, я подумаю, что Вы разлюбили меня, а мне больно это думать, потому что я Вас люблю (и чорт знает, за что – ну, что в Вас? – и важности никакой – так – офицерик, дрянь, серная спичка, сосулька {118}), как немногих любил. Ну да отвяжитесь от меня – что пристали? Прощайте. Э, да! и забыл было: прошу поподробнее известить меня о Ваших подвигах на поприще службы под знаменем Амура, как выражались любезники прошлого века: это для меня всего интереснее:
Я молод юностью чужой. {119}
Вот и письмо от тебя, любезный Боткин, – ты в Москве, я в Питере, и словно мы с тобою во сне увиделись. {120}Увы! Жизнь бежит от меня – в сердце пусто, в душе холодно, а извне словно кора ледяная лежит и не пропускает сквозь себя ни свету, ни теплоты солнечной. Ну – да чорт возьми всё это – надоело и говорить всё одно и то же. Твой приезд был для меня таким толчком, что и теперь не могу опомниться. Мне легко стало смотреть на Питер – даже улицы начинают нравиться. Странная натура: я до такой степени во власти моих религиозных убеждений и заблуждений, что смотрю на вещи сквозь цвет их стекла и под их влиянием зимний мороз готов принять за летний жар, и наоборот. Ну, да об этом после. Никак не думал я, чтобы письмо мое могло тебе понравиться; {121}написав его, я был ужасно им доволен, а как ты приехал в Питер, оно мне казалось так глупо, что мне было стыдно и вспомнить о нем. Написал письмо и даже послал (8 апреля) к Н<���иколаю> Б<���акунину> в Тверь. Также к Каткову в Б<���ерлин>, но еще не послал. {122}Ну, брат, какую же ты комиссию навязал мне – я так и растерялся идти в аптеку {123}– да я боюсь людей – и то, что вспомнил о Кирюше – и вот посылаю. Завтра отправлю Кошихина. {124}
С чего ты взял, что не простился со мною? {125}Я очень хорошо помню, что мы поцеловались с тобою счетом два, если не три раза. Ты был в себе, и как во сне видел всё вне тебя. Летом постараюсь побывать в Москве – употреблю все силы. Знаешь ли, кто теперь гостит у меня? Князь Козловский. Он всё тот же – не изменился нисколько. {126}Только я теперь люблю его еще больше, потому что теперь понимаю его лучше. Благородный и простой человек! О тебе он говорит с религиозным чувством.
Очень тронули меня твои простые, прямо из сердца вылившиеся строки о приезде домой, об отце, детях, но говорить об этом ничего не могу. {127}Укрепи тебя Христос на терпение и на святой подвиг. Тяжело и грустно, но и тут есть своя хорошая сторона: служа опорою дряхлому и слабому старику-отцу и малым детям, ты будешь иметь право иной раз с уважением взглянуть и на себя. Не всё же жить в себе – не мешает и выйти вовне – лишь бы стоило выходить, а тебе теперь и есть куда и есть зачем выходить из себя. Прощай, друг. Жму твою руку и обнимаю тебя. Все наши тобою интересуются – разумеется, всех больше Гефест хромоногий. {128}Хорош Шевырев: Лермонтов подражает Бенедиктову и пр. {129}Святители! Из моей несчастной статьи вырезан весь смысл, ибо выкинуто ровно половина. {130}Прощай.
Читать дальше