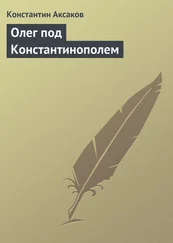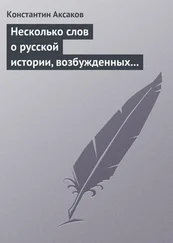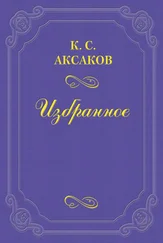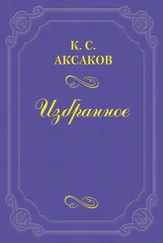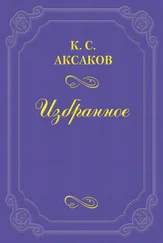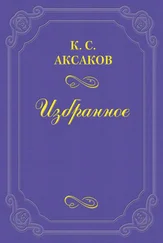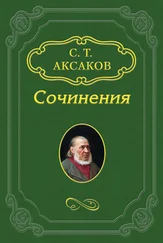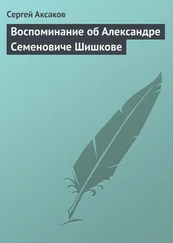Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице, мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по-прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали, пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наполняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, назначенную предметом и для первого курса. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; тут раздался в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды.
Перед самым нашим выходом из университета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм. Топорнин, – поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме, желая придать делу торжественность.
Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно. На экзамене Давыдова, бывшем к вечеру, я, отвечав, должен был написать тут же нечто вроде сочинения; я написал и подал. Голохвастов принялся читать и потом подозвал меня. «Аксаков, как это вы написали нынче? Разве это можно?» – спросил он. «Отчего же нет, – отвечал я, – слово – вполне русское». – «Но этого нельзя писать». – «Да отчего же? ведь мы говорим это слово». – Голохвастов обратился к Давыдову, который отвечал уклончиво, спрося меня: «Разве вы слышали с кафедры такое слово?» – «Не помню, – отвечал я, – но слово тем не менее законно». – «Как вы думаете, Иван Иванович, – сказал Голохвастов, – ведь это показывает упадок языка?» – Спор продолжался; и я, желая прекратить его и идти домой, сказал: «Ну, хорошо, я вам уступаю это слово». Сказавши это, я пошел от них. «Le est bien bon, il nous cede» [8], – сказал мне вслед Голохвастов.
Наконец экзамены окончились, и я вышел кандидатом.
На одной из лекций, перед выпуском нашим, увидали мы в числе слушателей, на лавке, в стороне, – генерала. Это был граф Строганов. Он был предвозвестником нового порядка, который вскоре после нашего выхода и завелся в университете. Хотя эпоха строгановская была эпоха очень, по-видимому, либеральная, но тем не менее внешность, а еще более аристократичность – принесли свое зло.
Скажу в заключение. В наше время профессорское слово было часто бедно, но студентская жизнь и умственная деятельность, неразрывно с нею связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды. В последующее время со стороны профессоров слово, быть может, стало вообще ученее и умнее, но зато студентская жизнь и весь университет подчинились влиянию форменности. Студенты скоро начали увлекаться прелестью светской пустоты и приличными манерами. Внешность, несмотря на всевозможное свое изящество, или лучше – тем сильнее, проникает в живую душу и оцепеняет внутреннюю и всю духовную, единственно нужную сторону человека.
Сила внешности растет, и надо ожидать, что университет обратится скоро в корпус, а студенты в кадетов.
12 января 1855 г.
Слава Богу! Это ожидание не сбылось. Просвещение теперь уважается, и ему дается ход.
Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь.
Муза, скажи мне о том многоопытном муже… – древнегреч .
Читать дальше