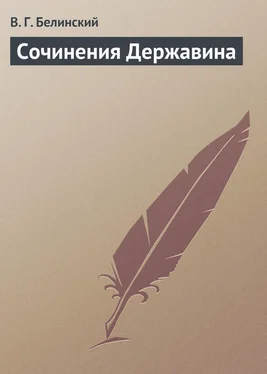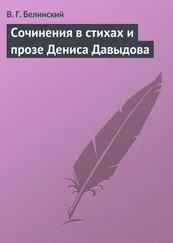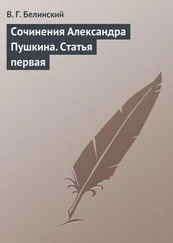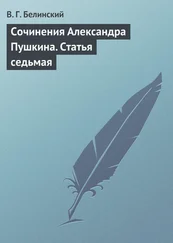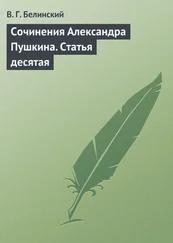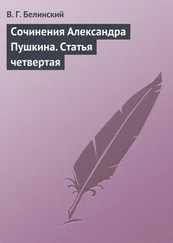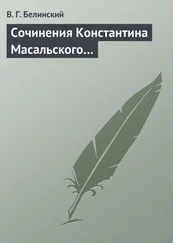Одно из главнейших условий всякого художественного произведения есть гармоническая соответственность идеи с формою и формы с идеею и органическая целостность его создания. Поэтому всякое художественное произведение прежде всего должно отличаться строгим единством лежащего в его основании чувства или мысли. Мысль в пьесе может быть схвачена или в одном своем моменте, или развита во всех ее моментах, но она должна быть одна, и ее развитие должно относиться к ней самой, как относятся в музыкальном произведении варьяции к мотиву. Если мысль пьесы переходит в другую, хотя бы и имеющую к ней отношение мысль, – тогда нарушается единство художественного произведения, а следовательно, единство и сила впечатления, производимого им на читателя. Прочтя такое произведение, чувствуешь себя только обеспокоенным, но не удовлетворенным, – утомление и досада заступают место наслаждения.
Если мысль поэтического произведения истинна в самой себе, ясна и определенна для поэта, если произведение верно концепировано и достаточно выношено в душе поэта, – то в нем не может быть ни уродливых частностей, ни слабых мест, ни темных и непонятных выражений, ни недостатка в внешней отделке. Произведение, в таком случае, органически целостно: в нем нет ничего ни излишнего, ни недостающего; оно округлено: его начало вводит читателя в его смысл; последнее слово замыкает собою все его содержание, так что читатель вполне удовлетворен и не может спросить: «что же дальше?»
Стихотворения Державина не выполняют ни одного из этих условий. Во-первых, все они более или менее отличаются характером риторическим, и, по крайней мере, большая часть их походит на диссертации в стихах. Мы не можем подкрепить выписками этого мнения, ибо, в таком случае, нам пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всех перед глазами, и каждый сам может поверить справедливость нашей мысли. Впрочем, при разборе некоторых стихотворений, мы будем иметь случай мимоходом, указывать на эту черту недостатка поэзии Державина; пока ограничимся только указанием на некоторые, особенно замечательные в этом отношении, пьесы, каковы, например: «Бессмертие души» (192 стиха), «Величество божие» (132 ст.), «Христос»(320 ст.), «Слепой случай» (200 ст.), «Успокоенное неверие» (108 ст.), «Истина» (144 ст.), «Гимн богу» (96 ст.), «Тоска души» (104 ст.), «Добродетель» (120 ст.), «Слава» (112 ст.), «Целение Саула» (450 ст.), «Гимн солнцу» (100 ст.), «Облако» (80 ст.), «Гром» (90 ст.), «На умеренность» (110 ст.), и пр. Таких пьес у Державина гораздо больше можно начесть. Читать их тяжело. Это все равно, что читать арифметику, написанную стихами: читатель согласен с нею, что 2 × 2 = 4, но он тем не менее в отчаянии, что такие простые, почтенные и с малолетства всякому известные истины не изложены обыкновенного прозою, без поэтических затей. Так и в поименованных нами стихотворениях Державина все мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: их можно найти у любого плохого стихотворца того времени. А это уже признак отсутствия поэзии: у истинного поэта и старая мысль является новою, ибо истинный поэт дает чувствовать живую сущность мысли, которую толпа бессмысленно повторяет, как мертвую букву. По величине своей поименованные нами оды Державина решительно не имеют ничего общего с лирическою поэзиею. Лирика есть выражение преимущественно чувства, и в этом отношении она приближается к музыке, которая, исключительно из всех искусств, действует прямо и непосредственно на чувство. Одна пьеса не может быть выражением двух различных чувств, а чувство проходит по душе мгновенно, как тот трепет восторга, от которого священный холод пробегает по телу и встревоженною ратью поднимает волосы на голове человека… И если такое чувство неослабно будет владеть читателем во все время, необходимое для прочтения даже восьмидесяти не только четырехсот пятидесяти стихов, – человеческая натура читателя не выдержит этого, и результатом восторженного чтения должна быть болезнь, утомление… Поэма, драма, и особенно, роман – другое дело: там ум часто дает отдыхать чувству; там комические сцены и, по сущности выражаемых предметов, прозаические места возбуждают в читателе разнообразные ощущения. Но держаться, в продолжение доброго получаса или и более в одном чувстве, в одинаковой настроенности души, – это неестественно и потому невозможно. Державин в поименованных нами пьесах, кажется, всего менее рассчитывал на чувство: стихотворения эти холодны и прозаичны, как школьная диссертация, стихи в них дурны до последней степени, и редко, очень редко кой-где проблескивают искорки одушевления, сейчас и погасая в воде риторики. Кажется, главною его заботою было высказать о предмете все, что только мог он придумать о нем. Порядка в его мыслях нет никакого, и потому его длинные и резонерствующие оды не имеют достоинства даже хорошо расположенного и округленного школьного рассуждения.
Читать дальше