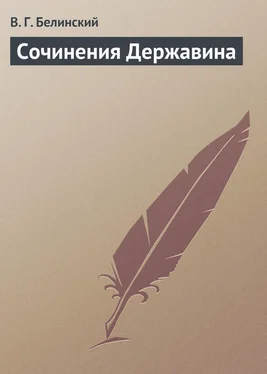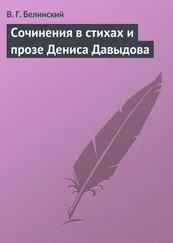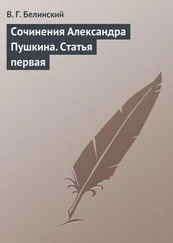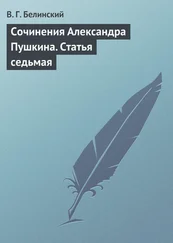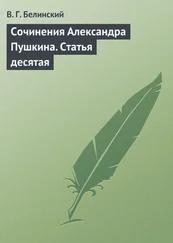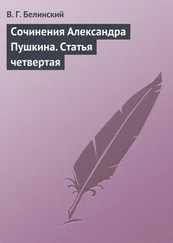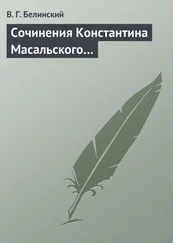Выражаясь прозою, это значит, что поэзия есть позолота на горькой пилюле нравоучения… Мнение ограниченное и жалкое, но под его эгидою начинается всякая поэзия, возникшая не непосредственно из народной жизни, а явившаяся как нововведение, как какое-то общественное учреждение… И за то спасибо ему: оно, это мнение, поддержало у нас и дало укрепиться зародышу поэзии Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить им в вину это. В действиях великих людей бывает два рода недостатков и ошибок: одни происходят от их личного произвола или личной ограниченности; другие – из духа и потребностей самого времени. За недостатки и ошибки первого рода можно и должно обвинять великих действователей; недостатки же и ошибки второго рода можно и должно называть их собственными именами, то есть недостатками и ошибками, но ставить их в вину великим действователям не можно и не должно. Итак, очевидно, что Державин не мог быть, а потому и не был поэтом-художником; его поэзия – лепет младенческий, исполненный жизни и прелести, но не речь разумная мужа. И откуда же взял бы он художественность образов, пластическую отделку формы, если в его время о таких хитростях не было понятия, а следовательно не было в них и потребности? И потом, можно ли винить его за риторику и дидактику, входящие, как элемент, во все даже лучшие его создания, а в посредственных и слабых играющие первую роль? Конечно, за это никто и не обвинит его; но, с другой стороны, есть ли какой-нибудь смысл обвинять, как в преступлении, как в дерзком неуважении к священным предметам; людей, которые называют вещи собственными их именами и не хотят видеть в них больше того, что есть в них на самом деле? Можно насчитать более полусотни стихотворений Державина, в которых нет ни искры поэзии и в которых злоупотребление «пиитической вольности» с языком доведено до крайней степени: неужели грех и преступление сказать об этом прямо? неужели критика должна состоять из одних лицемерных фраз и натянутого восторга, выражаемого общими местами дрянных учебников по части словесности? Нет, тысячу раз нет, – тем более нет, что подобная искренность нисколько не может повредить славе Державина, ни затмить его великого таланта, ни унизить его великих заслуг! Неудачные стихотворения могут быть у всякого великого поэта, и если у Державина их больше, чем у других, это вина времени (если только время может быть в чем-нибудь виновато), а не поэта. Жуковский – тоже поэт необыкновенный; он явился уже после Державина, когда самый язык сделал большие успехи через Карамзина и Дмитриева; Жуковский сам подвинул язык вперед и много сделал для стиха и для поэзии; но и у Жуковского есть длинные послания, которых достоинство заключается совсем не в поэзии, а разве в звучности стиха и красноречии и которые, в сущности, не многим важнее риторических и дидактических рассуждений в стихах Державина, добродушно называемых им одами. И в этих длинных посланиях Жуковского виден исторический ход развития нашей поэзии: у Пушкина уже нет подобных произведений, но потому именно и нет, что они уже были у Жуковского и что уже пришло время кончиться им.
Итак, некого обвинять и нечего жалеть, что Державин не был поэтом-художником; лучше подивиться тем светозарным проблескам поэзии и художественности, которыми так часто и так ярко вспыхивает дидактическая, по преобладающему элементу своему, поэзия этого могучего таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художническая, но время и обстоятельства положили непреодолимые преграды ее развитию, и потому в созданиях Державина нет поэзии как искусства, есть только элементы и проблески истинной поэзии. Это уже не чисто подражательная поэзия, как у Ломоносова: в ней уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемешанные с какою-то искаженною греческою мифологиею на французский манер. Возьмем для примера прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто русской природы с бог ведает какой природою, – очаровательной поэзии с непонятною риторикою:
Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных из пещер;
Ужасны крылья расширяя, {10}
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул – и облака расселись,
Спустился дождь и восшумел.
К чему тут Эол, к чему Борей, пещеры и чугунные цепи? Не спрашивайте: к чему нужны былн пудра, мушки и фижмы? – Во время оно без них нельзя было показаться в люди… И как нейдет русское слово «богатырь» к этому немцу «Борею»!.. Можно ли гонять стадами синий воздух? И что за картина: Борей, сгустив туманы в облака, давнул их; облака расселись, и оттого спустился дождь и восшумел?.. Ведь это – слова, слова, слова!.. Но далее:
Читать дальше