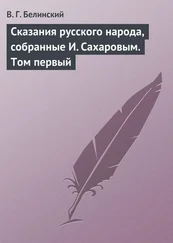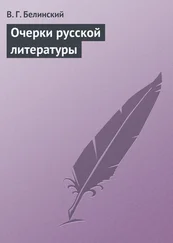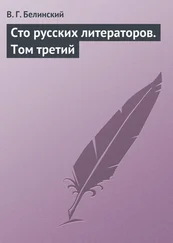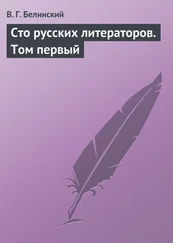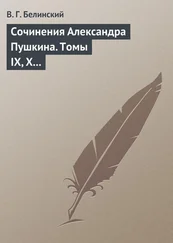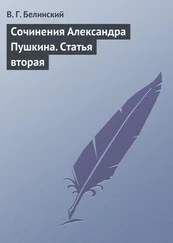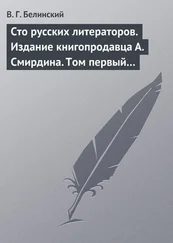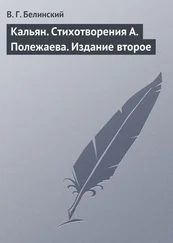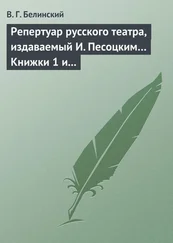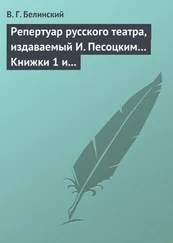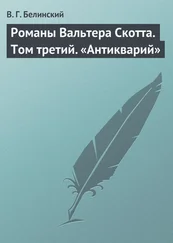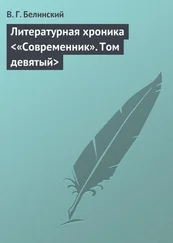Г-н Панаев (В. И.), известный наш идиллик, написал для альманаха г. Смирдина не повесть, а рассказ об истинном происшествии, который и назван им просто «Происшествие 1812 года». Рассказ отличается занимательностию содержания, правильным, гладким и приятным слогом, но картинка к рассказу очень плоха {72}.
«Любовь петербургской барышни», предсмертный рассказ г. Веревкина, или Рахманного, заключает собою второй том «Ста русских литераторов». В этом предсмертном рассказе нет никакого рассказа, потому что нет никакого содержания. Это просто дурно набросанная болтовня о том, как одна петербургская барышня сперва «влюбилась» в одного господина офицера , а потом, когда ей представилась выгодная партия, разлюбила его. Интереснее всего в этом рассказе литературные признаки г. не известного в русской литературе сочинителя, признания вроде «Confessions» [6]Руссо или жаненовских признаний {73}. Послушайте:
Около того же времени в первый раз выступил я на литературное поле. Есть на Руси таинственный человек, которому все невольно удивляются, хотя многие и злословят его. Не зная этого человека лично, я был влюблен в него, быть может, столько же, как в Ольгу: не я один, из нашего молодого у Поколения, питал и питаю к нему эту романическую привязанность. По моим понятиям, такая сила дарования должна была опираться в нем на душу теплую и благородную, и я не ошибся. Точно так же, как невинная Ольга доверчиво вручила свою судьбу мне, почти незнакомому себе ( ей? ) человеку, я вручил ему свою, беспредельно, неограниченно ( вручить судьбу беспредельно, неограниченно – как это хорошо сказано!). Любовное письмо , которое я написал к нему, исторглось у меня также из глубины души: он так и понял его, и с тех пор его участие, совет, руководство, содействие, помощь, дружба не оставляли меня. Радость и весьма основательная гордость моя, по поводу приобретения такого друга, служила некоторым противувесием горести, которую начинала причинять любовь. Дело в том, что в то самое время, как приобретал друга, я очевидно терял любовницу: ответ, объяснение не являлись…
Благодаря содействию этого достойного друга маленькие довольно блестящие успехи начали загромождать путь мой к будущей литературной славе ( вот как !..), которая с тех пор и самому мне показалась возможною к достижению при дальнейших усилиях и более важных начинаниях (?). Мое имя было произнесено в гостиных . Литературные интриганты стали штурмовать меня письмами, стараясь привлечь новое перо мое в журналы своих бессильных партий. Эти бездарные шакалы мигом чуют поживу за семьсот семьдесят семь верст, и их мелочные происки, внушая мне отвращение, Очень польстили моему самолюбию: они заставляли меня верить в мой собственный талант, и я уже некоторым образом начинал разыгрывать роль «писателя». Предчувствия, предсказания Ольги сбывались. Эти первые лучи славы были, бесспорно, творение рук ее. С каким восторгом украсил бы я ими прелестную ее головку…
Вот гений-то, так уж гений! Он не дожидается суда современников и потомков, но, написав две-три посредственные повестцы для приятельского журнала, сам провозглашает себя гением и, сбираясь в дальний путь, смело сочиняет апотеоз своей небывалой славы, выдумывает себе почитателей и врагов, уверяет, что его наперебой звали к себе журналисты, крича: «К нам, Иван Александрович, пожалуйте к нам, управлять департаментом!..» {74}Впрочем, все это так нагло и бессмысленно, что надо помочь недоразумению читателей и сказать им, кто такой этот г. Веревкин, или Рахманный, то есть что такое сделал и чем прославил он себя в русской литературе. Он написал в «Библиотеке для чтения» одну или две из тех повестей, которые кажутся столь остроумными известному кругу провинциальной публики; потом он был не то корректором, не то выписчиком забавных мест из московских романов для литературной летописи «Библиотеки для чтения» – как было это как-то объявлено во всеуслышание в этом журнале. Вот и все его права на литературную славу, которой он почитал себя достигшим. Что же до таинственного человека, которому будто бы удивляется вся Россия, – его нетрудно угадать по слогу повести г. Веревкина, которая начинается фразою: «Есть разного роду любви »; далее можно в ней найти слова «вражд», «мечт» и т. п. {75}.
Нельзя не поговорить о тоне этой повести – так изящен он. Вот несколько образчиков:
Ей-ей, не стоило родиться! Лучше уж было родиться лягушкою, потому что, нет сомнения, у холоднокровных лягушек, живущих в одном и том же болоте с петербургскими барышнями , любовь, по свидетельству всех физиологов, в тысячу раз и горячее, и страстнее, и постояннее. Как бы я теперь был счастлив с моею доброю, чувствительною, любящею лягушкой! Она посвятила бы мне все свое существование, жила бы только для меня, заботливо смотрела бы в мои потухающие глаза, и, когда последний луч света в них погаснет, сама, своей нежной лапкой, закрыла бы их навсегда.
Читать дальше