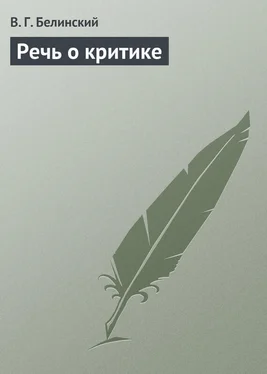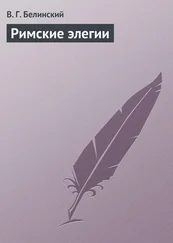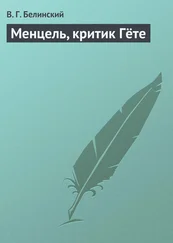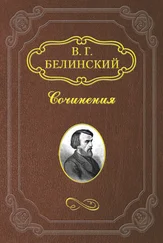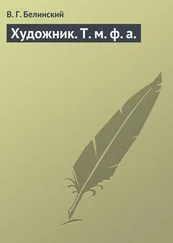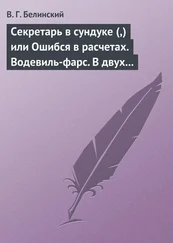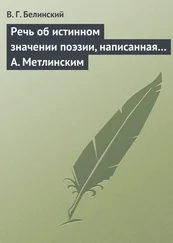Мы не без намерения привели здесь этот полный перечень сочинений Сумарокова. Такая деятельность изумительна в человеке того времени! Годы и здравый смысл давно уже произнесли свой суд над поэтическими произведениями Сумарокова: их теперь невозможно читать, несмотря на то, что современники ими восхищались. Однакож никак нельзя презирать и судом современников, обязанных сочинениям Сумарокова своею грамотностию и – что особенно важно – своею наклонностию к благородному наслаждению чтением и театром. Следовательно, поэтические сочинения Сумарокова, и не будучи читаемы, должны остаться навсегда фактом истории русской литературы и образования русского общества. Что же касается до собственно литературных статей Сумарокова, они чрезвычайно интересны и для нашего времени, как живой отголосок давно прошедшей для нас эпохи, одной из интереснейших эпох русского общества. Сумароков обо всем судил, обо всем высказывал свое мнение, которое было мнением образованнейших и умнейших людей того времени. Плохой поэт, но порядочный по своему времени стихотворец, характер мелкий, завистливый, хвастливый, задорный и раздражительный, – Сумароков все-таки был человек умный и притом высокообразованный в духе того времени. И потому в его прозаических статьях много фактов о состоянии общества и духе его эпохи. В них он является критиком в многостороннем значении этого слова, как судия не только искусства и литературы, но и мнений и нравов современного ему общества. Посему, говоря о русской критике, мы никак не могли обойти первого (по времени) ее представителя – Сумарокова. Мы должны взглянуть, хотя мимоходом, на те из его сочинений, где он является критиком и полемическим мыслителем. И мы уверены, что после наших указаний многие захотят покороче познакомиться с прозаическими сочинениями Сумарокова и пожалеют, что они изданы Новиковым без толку, без плана, с страшными опечатками и искажениями смысла, без примечаний и что теперь некому издать всех сочинений Сумарокова как следует, а главное – с необходимыми пояснениями и примечаниями. Вообще надо заметить, что компактные дешевые издания старинных русских писателей, игравших в глазах своих современников более или менее важную роль, были бы очень полезны для литераторов, которым необходимо знать основательно историю отечественной литературы и родного языка. В царствование Екатерины было много пишущего народа, и, однако, немногие пользовались огромною известносгию: знак, что в них было нечто соответствовавшее их эпохе и удовлетворявшее ее требованиям. Пусть вкус эпохи бывает иногда ложен, но эпоха всегда важнее человека, и самые заблуждения ее всегда представляют любопытный и поучительный факт для мыслителя. Смешно и жалко видеть бесплодные усилия старичков прошлого века восстановить славу корифеев их юности за счет славы новых талантов; смешно и жалко видеть, как они силятся соблазнить новое поколение умершею поэзиею прошедшего; но в то же время можно уважать имена тружеников, которые своими сочинениями, каковы бы они ни были, размножали в обществе число грамотных людей, возбуждали в нем любовь к благородным наслаждениям и способствовали к произведению того, что называется «публикою» и без чего невозможна никакая литература. Таким образом, желательно было бы видеть издание в одинаковом формате, компактное и дешевое, не только Ломоносова (старинные и неопрятные, притом и не совсем полные издания которого составляют теперь библиографическую редкость), или Державина (смирдинское издание которого так неудачно и так бесполезно, ибо в нем пьесы расположены по родам, а не по времени их явления), или Фонвизина (который издан г. Салаевым довольно толковито, но без переводов этого писателя), или Озерова (которого все издания уже устарели); но и Кантемира и Тредиаковского, Поповского, Сумарокова, Хераскова, Муравьева, Петрова, Богдановича, Княжнина, Кострова, Плавильщикова, Ильина, Иванова, Макарова и других; еще желательнее, чтоб все это было издано с примечаниями и пояснениями, как издают своих старинных писателей французы.
Мы обратим внимание только на те статьи Сумарокова, в которых видны понятия того времени об искусстве или которые, при полемическом тоне, характеризуют общество его времени.
Первое место между такими статьями Сумарокова должно занимать его предисловие к «Димитрию Самозванцу». Тон этого предисловия самый полемический и устремлен против так называвшейся у нас в старину «слезной комедии», что называлась в Европе мелодрамою. Известно, что мелодрамы были в страшном гонении в XVIII веке и тогдашние судьи и теоретики искусства столько же не терпели их, сколько любила их та часть публики, которая ценила литературные произведения по мере доставляемого ими наслаждения, а не по пиитике Буало. Сумароков, в свою очередь, не мог не ненавидеть их, и одна из них, «Евгения», переведенная каким-то московским чиновником, имела значительный успех на сцене, что еще более восстановило против нее ревнивого ко всякому чужому успеху Сумарокова. В его филиппике против этой драмы выказывается и понятие об искусстве знатоков того времени, и нравы общества, и характер самого Сумарокова. Выписываем ее вполне, тем более что она не велика:
Читать дальше