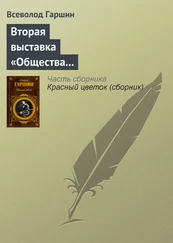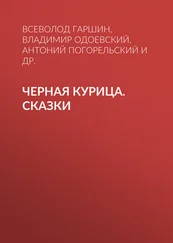Он передумывал эти слова даже с каким-то странным наслаждением. Он как будто бы гордился ими. Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, он и теперь лгал тою же, худшею в мире ложью, ложью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко. Пусть кто-нибудь сказал бы ему даже десятую часть того, что он сам наговорил на себя в этот долгий вечер, – и на его лице выступила бы краска не стыда от сознания правды упрека, а гнева. И он сумел бы ответить обидчику, задевшему его гордость, которую теперь он сам, по-видимому, так безжалостно топтал.
Сам ли он? Он дошел до такого состояния, что уже не мог сказать о себе: я сам. В его душе говорили какие-то голоса: говорили они разное, и какой из этих голосов принадлежал именно ему, его «я», он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже красивыми фразами. Второй голос, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казнись, – говорил он, – зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был еще третий голос, тот самый, что спрашивал: «полно, не было ли?», но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его.
– Обмани всех… Сделай из себя не то, что ты есть… Да разве я не старался делать это всю жизнь? Разве я не обманывал, разве не разыгрывал роль из фарса? И разве вышло «хорошо»? Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, как актер, даже теперь я не то, что я на самом деле. Правда, разве я знаю, что я такое на самом деле? Я слишком запутался, чтобы знать. Но все равно, я чувствую, что ломаюсь вот уже несколько часов подряд и говорю себе жалкие слова, которым сам не верю, говорю даже теперь, перед смертью. Да неужели же перед смертью?
– Да, да, да! – прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола. – Нужно же, наконец, выбраться из путаницы. Узел завязан так, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачем только было тянуть, надрывать себе душу, и без того изорванную в отрепье? Зачем было, раз решившись, сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор?
И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер.
Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи.
В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. Там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женою отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверно, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно.
«Да, наверно, впустят, скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете…»
– Ну, дядя, поезжай скорее! – крикнул он извозчику.
Извозчик, – маленький, с сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки, – чмокнул, задергал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом:
– Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие. Но, но!.. Ишь, баловница! Эка лошадь, прости господи! Но! – Он хлестнул ее кнутом, на что она ответила легким движением хвоста. – Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал… просто такая уж… Обижаются господа, что тут будешь делать! А хозяин говорит: ты, говорит, дедушка, стар, так вот тебе и скотинка старая. Ровесники, говорит, будете. А ребята наши смеются. Рады глотки драть; им что? Известно, разве понимают?
– Не понимают? – спросил седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет.
– Не понимают, ваше благородие, не понимают, где им понять! Глупые они, молодые. У нас во дворе один я старик. Разве можно старика забиждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил. . Известно, глупые… Ну, старая! Застыла!
Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил:
– Что с ей сделаешь: тоже уж двадцать первый год, должно, пошел. Ишь, хвостом трясет…
На освещенном циферблате часов, поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого.
«Уехали уж, должно быть, – подумал седок про доктора с женой. – А может быть, и нет еще…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу