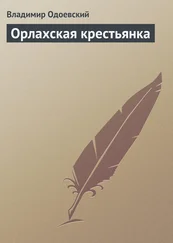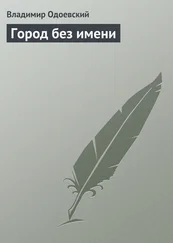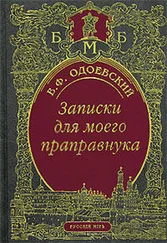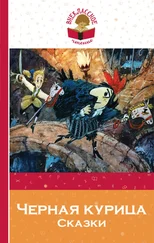Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер – повивальная бабка говорила, оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцевала перед родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.
Графиня скоро оправилась. Был великий пост: балы прекратились, графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно; на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется, на варгане, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.
В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестию. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнее был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда, – люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.
– С кем вы сейчас говорили? – спросила графиня.
– Это ваш старинный знакомый, Воротынский.
– Старинный знакомый, – повторила графиня, – тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.
– Он сию минуту просил меня его вам представить… Позволите?..
– О, без сомнения.
Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем давно он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг посреди самого жаркого разговора она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное им на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:
– Что значат эти черные перчатки? разве вы в трауре?
– В трауре, графиня.
– По ком?
– А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете смеяться.
– Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?
– Мне так кажется: вы так счастливы.
При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:
– Скажите же, по ком вы в трауре?
– Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием – не смеяться.
– О, полноте; я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?
– По самом себе, – с важным видом сказал молодой человек.
Графиня захохотала.
– Разве вы умерли?
– Я вам сказал, что вы будете смеяться.
– Ваши слова или не иное что, как шутка, или они очень важны.
– И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.
– Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?
– Знаю, и очень давно.
– Вы не женаты?
– Нет.
– Так вы ничего не знаете.
Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть – и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушною улыбкою, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен, черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность, – разгадать было трудно: все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для всех и, может быть, больше всего для самого себя.
Читать дальше