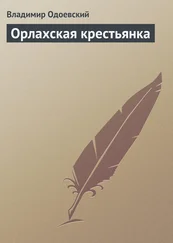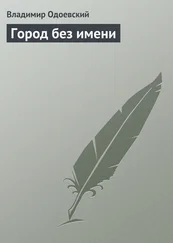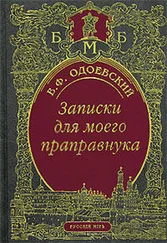«Москва, 4 февр. 18…
Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы – голубой с белыми полосками для Лидии, и пунцовый для меня; по нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька, по обыкновению, рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы Бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина, да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта {1}, весь „Вестник Европы“. Мне наконец удалось достать „Клариссу“ из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, – хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, – такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских нумеров журналов, – где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: продолжение впредь; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы сходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится – говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно, – и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселить маменьку; но как это сделать – он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь – хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться – она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, Бога ради, ко мне: по крайнем мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная Зизи.
P. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дожидайся, поедет он в нашу пустыню!..»
– Нумер второй, – сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.
«Москва. Февраля 15-го.
Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала, – уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков – премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах… Добрый человек! Сам Бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее – дай-то Бог! На радости маменька поехала с нами в город [2]. Ах, как там весело! Пропасть народа, экипажей, шум… А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют satin turque [3]; ее делают двуличневою – прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»
Читать дальше