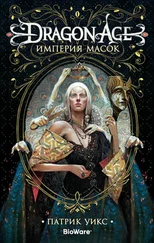Печальные пруды, где тают вечера.
Не собраны никем, цветы там опадают.
Речь его безукоризненна. И этим он тоже отличается от Верхарна. Его поэмы, являются ли они результатом долгого, или короткого труда, никогда не носят на себе отпечатка усилий. С удивлением и восхищение следишь за прямым и благородным бегом его строф, которые, подобно белым коням в золотой сбруе, несутся вперед и исчезают в темной славе вечеров.
Богатая и тонкая, поэзия Анри де Ренье никогда не отличается одной только лирикой. Среди гирлянд метафор у него всегда сверкает какая-нибудь идея. И как бы схематична, как бы неопределенна ни была эта идея, ее все же совершенно достаточно, чтобы ожерелье поэтических образов не рассыпалось в беспорядке. Все ее жемчужины нанизаны на нитку, иногда совершенно незаметную, но всегда крепкую. Таковы, например, следующие строки:
Такою бледною заря была вчера,
Над мирными зелеными лугами,
Что с раннего утра
Дитя явилось меж кустами
И наклонялось над цветами,
Чтоб асфодели рвать прозрачными руками.
Был полдень грозно жгуч и тусклы небеса,
В саду – безмолвная и мертвая краса,
Деревьев веянье живое не касалось;
Как мрамор жесткою вода казалась,
А мрамор светлым был и теплым, как вода.
Прекрасное Дитя явилося сюда
В одежде пурпурной и в золотом венке,
И долго виделось вблизи и вдалеке
Как огненных пионов кровь стекала,
Когда меж них Дитя мелькало.
Дитя нагое вечером пришло
И розы собирало в темной сени,
Оно рыдало, зачем сюда пришло,
Своей боялось тени.
Ребенок был так наг и мал,
Что в нем свою судьбу я вмиг узнал.
Это простой эпизод длинной поэмы, в свою очередь являющейся фрагментом целой книги. Это маленький триптих, имеющий несколько значений, сообразно с тем, берется ли он в отдельных своих частях, или целиком. В одном случае – перед нами судьба отдельного существа, в другом – символ жизни вообще. Но этот отрывок дает нам также и образец настоящего свободного стиха, поистине совершенного, виртуозного.
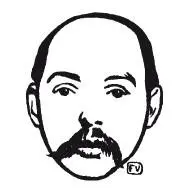
Я не хочу сказать, что Вьеле-Гриффен веселый поэт, но, несомненно, это поэт веселья. Вместе с ним принимаешь участие в радостях простой, нормальной жизни, в стремлениях к миру. Вместе с ним приобщаешься к непоколебимой вере в красоту, в непобедимую молодость природы. Он не буен, не пышен, не нежен – он спокоен. Очень субъективный, впрочем, может быть, именно благодаря своей субъективности, он религиозен, так как думать о себе значит, в конце концов, думать о всей своей личности в полном ее объеме. В природе он, как Эмерсон, видит «прообраз древней религиозной мысли человечества». И как Эмерсон, он думает, «что день не пропал даром, если внимание хоть на мгновение было уделено природе». Он знает и любит все элементы леса, начиная от «больших, нежных ясеней» до «молодых, бесконечно разнообразных трав». И, несомненно, это его лес, о котором он говорит:
Вся жимолость покрылася цветами,
Сочатся солнца золотые слезы,
Шуршит косуля быстрая кустами,
И ветер веет по кудрям березы
Между листами.
В моих лугах осеребрились травы,
Как шпаги блеск блестят лучи далеко,
Жужжанье пчел услышите с утра вы
И ландыши по берегу потока,
И ветер веет в ясенях дубравы.
Но он знает не только цветы, которыми пестрят луга, он знает также «La feur qui chante» [11], и «Celle qui chante» [12], и лаванду, и майоран, фею старых баллад и сказок. Он помнит припевы народных песен и вводит их в свои маленькие поэмы, похожие на комментарии к основному тексту, или просто на поэтическую грезу.
Где наша Маргерита?
Огэ, Огэ!
Где наша Маргерита?
Она в высоком замке усталая все ждет,
Она в своей землянке так весело поет,
Она в своей могиле, – там ландыш расцветет.
И это почти так же трогательно, как стихи Жерара де Нерваля:
Где наши милые?
Они в могиле.
Житье постылое
Там позабыли.
И так же невинно жестоко, как те хоровые песни, которые поют маленькие девочки:
К чему дана краса?
Чтоб в землю зарывать,
А там червей питать,
А там червей питать.
Вьеле-Гриффен пользовался с чрезвычайной осторожностью народной поэзией, в которой так мало искусственного, что она кажется как бы рожденной, а не сотворенной. Но если бы он был и менее скромен, то все же не злоупотребил бы ею, ибо он умеет чувствовать и уважать. Другие поэты, к несчастью, отличались меньшим благоразумием. Они срывали «La rose qui parle» [13]такими неуклюжими и грубыми руками, что было бы лучше, если бы вечное молчание царило вокруг этой прелести народной фантазии, ими оскверненной и униженной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
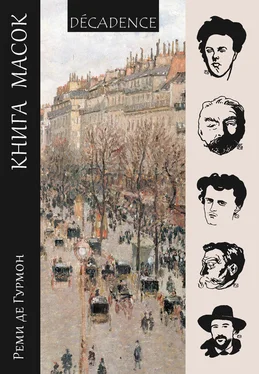
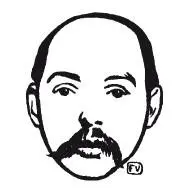


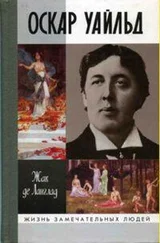
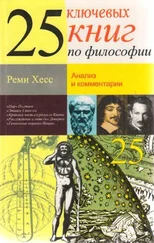
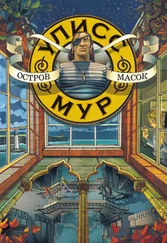
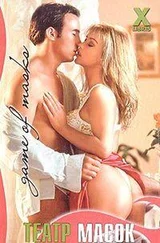
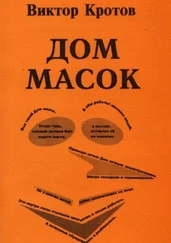
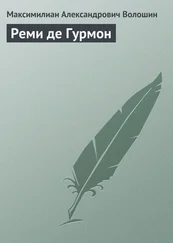
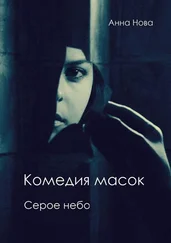
![Николай Метельский - Устав от масок [litres]](/books/390819/nikolaj-metelskij-ustav-ot-masok-litres-thumb.webp)