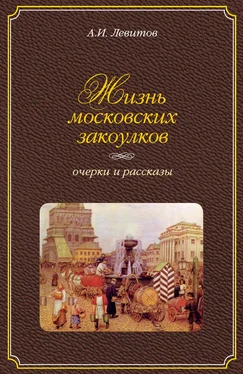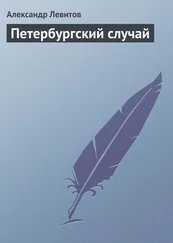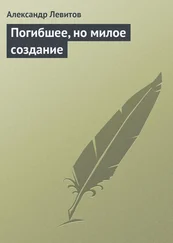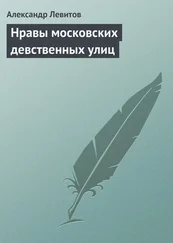Пиво азартно кипело в двух кружках; модный самовар, в виде помпейской вазы, щеголем подпер руки в боки; около него правильным полукругом стояли золотые чайные чашки; громадный графин толковал проходящим, что-де прочтите-ка, коли грамоте знаете, что на этой картине написано.
А послушные проходящие, изумляясь столичной росписи, читали по складам:
«Эдакой скус! Опробуйка, землячок!»
Так начиналась девственная улица, так она продолжалась, потом почти в самом конце, круто и криво обрушиваясь под гору, как бы топила в протекавшей здесь Москве-реке свою безвыходную нищету.
– Вот сейчас в быстру реку брошусь! – говорила она этим обрывом. – Ни дьявола своим мастерством в целый век не заработаешь, а только все винище одно жрешь и все это сказываешь себе: завтра, мол, беспременно отстану.
Работящая голь девственной улицы, в обыкновенные будничные дни угрюмая и до полного безмолвия смирная, теперь, праздничным слободным делом, вся высыпала на морозный день, и ржание этих парней в одних красных рубахах было столь вопиюще к небу об отмщении, что всякий больной человек ежели проходил тут, так непременно сердце его судорожно вздрагивало, и он вскрикивал:
– Горло, что ты ржешь? Когда же ты, человеческое горло, говорить станешь?
Барыня какая-то прошла, и порока-то в ней было только всего, что на голове ее, вместо шляпы огненного цвета, всегдашней на девственных улицах, – шляпы с такими же перьями, какие некогда развевались на Гекторовом шлеме, – была надета, как есть, братцы, как на мужике, шапка, опушенная серыми смушками. И шла эта барыня, никого не трогая, тихой, хорошей поступью; черные глаза ее пристально смотрели под ноги. Очевидно было, что она понимала, что ей не следует ломать своих маленьких ножек ради этой мостовой, вошедшей в притчу во языцех, – и вдруг:
– Ха, х-ха, х-ха-а!.. – громко раскатила улица по ее следам. Нельзя было не оглянуться на этот лешачиный хохот, и барыня оглянулась; а бойкая, с большими выпятившимися зубами, бабенка, манерно разглаживая свои напомаженные и выпущенные из-под платка височки, закричала ей:
– Что глядишь? Ай не знаешь?.. Вместе езживали…
Ай барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Чив-во тибе надомна?
Заорали на разные голоса молодцы, закривлялись при этом и заломались со свойственной мастеровой нацее грацией.
Ежели бы барыня в смушковой шапке вдруг в это время воротилась и, топнув ногой на хор, закричала бы: «Как вы смеете, расподлая эдакая мастеровщина, обращаться так с благородной женщиной», – то, я уверен, праздничная уличная картина непременно изменилась бы. Шустрая бабенка с висками с визгом убежала бы в ворота, а за ней дали бы стрекача и ее рыцари.
Но прошла мимо барыня в шапке, и чем дальше отходила она, тем более густые слова сыпались ей в уши.
Уличная картина, следовательно, ничуть не изменилась.
Идет офицер и видно, что не пехтура {285}какая-нибудь, потому что за ним парадно выступает тысячная пара, запряженная в широкие сани, а на тротуаре, в взмешенном бесчисленным множеством ног снегу, лежит мастеровой. Вонь и грязь около него.
Офицеру скучно. Забрел он сюда бог знает зачем. В голове бродило что-то вроде смутной надежды встретить какую-нибудь эдакую… с глазками в виде крупных, зрелых вишен, маленькую эдакую, канальство, при взгляде на которую, черт возьми, сразу взмахнулись бы ввысь поднебесную ослабшие телеса.
«Ну, там платье, юбочек ей этих беленьких накупить, чтобы ножка была видна», – идет безмолвно офицерская дума, погромыхивая палашищем. «Посадить в сани, надвинуть на нее шапку-боярку и смотреть: необыкновенно в такие времена эти плебейки забываются. Сразу уже от коровника-то они в амбицию вламываются. Приятно в морозный день с таким раздуханчиком загородную прогулку учинить!..»
Тут вдруг офицер почему-то проникся гуманными идеями; стал он тогда мечтать о сближении сословий, и потому, увидя мастерового в снегу, он с ласковой улыбкой, имевшей ободрить погибающего брата, сказал: «Не сыро ли тебе здесь, любезный друг? Петр! покинь лошадей: пособи поднять человека!»
Петр, этот кучер, получающий тридцать целковых в месяц жалованья, в бьющей по глазам зеленоватой шубе, в белых замшевых рукавицах до локтей, с бородищей в три сажени, только мимоходом взглянул на барина и, не улыбнувшись даже, натянул зеленые возжи с серебряными наставками, отчего парадный шаг рысаков сделался еще параднее.
«Ишь, черт, с коих ранних пор коньяку этого своего ломанул!» – шевельнулось в кучерской душе на хозяйскую просьбу, а мастеровой, в свою очередь, не поднимая головы с холодного снега, забормотал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу