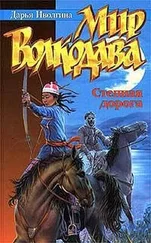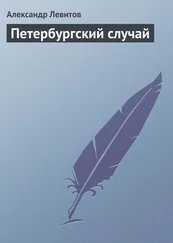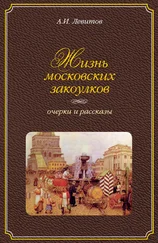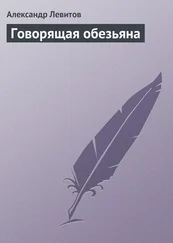Я насмотрелся в разных городах на такие язвы – и потому не ощутил особенного удовольствия при этом обещании. Но, необыкновенно устав и лежа в прохладном месте на душистом сене, следовательно имея под рукой все средства уснуть сном праведных, я все-таки никак не мог уснуть. В голове моей теснилась неотвязная мысль о том, что будет тогда, когда эта городская образованность, вышедшая из-под розог и кулаков дьячков, просвирен и отставных солдат, в самом деле разольется по селам и властительно засядет под гостеприимными елками питейных домов?..
На постоялом дворе, куда нас с Теокритовым очень скоро пригласили обедать, встретили мы обыкновенную обстановку и обыкновенные сцены. Заезжий мужик после благодарности за хлеб за соль, назвал при расчете живодером и лупилой работника, который обобрал его за эту хлеб-соль. Маленький тощий солдатик с птичьим лицом занял после его место за столом.
– Барыня-сударыня, женушка-красавица! Кушать пожалуйте-с! – кричит солдатик на двор в растворенное окно.
На его зов вошла в избу молодая женщина в ситцевом платье.
– Что это у меня какая жена умница, братцы мои, – сказать не могу! – рекомендовал публике солдатик вошедшую женщину. – Словно барыня какая, сейчас умереть!
– Будет, будет хвалить-то! Ешь знай, – говорила жена.
– И есть будем и хвалить будем. Поверите ли, господа, – продолжал он, налегая на щи, – такой бабы, мастерицы такой на всякие господские платья, однова дохнуть, в жисть не видал!
Только что отобедавший мужик слушал солдатскую похвалу с видимым удовольствием, между тем как работник, казалось, весьма сомневался в возможности обладания такой редкой женой, и в то же время, не желая из деликатности высказать свои сомнения, он смотрел на солдата и старался подкашливанием и кивками головы дать ему знать, что он понимает и ценит счастье быть женатым на такой умнице и мастерице на всякие господские платья.
– Веришь ли, друг ты мой сладкий, – обратился солдатик исключительно к мужику, – когда я, то есть, сватался за нее в Петербурге, оторопь меня великая забрала. Вот, думаю, по роже сейчас царапнет меня. Как ты, скажет, смеешь, солдатик ты эдакой разнесчастный, свататься за меня? Ей-богу!.. Потому (как тебя зовут, дядя? Петр, говоришь?), видишь ты, Петр, люди дорожные мы с нею теперь; одначе посмотри-кась ты на нее, во что одета она. Встань, покажись дяде Петру, – ему ничего, показаться можно. Ведь это, братец ты мой, знаешь, материя-то какая? Ты такой сроду и не видывал. Вот какая эта материя! Ну, а в то время, приятель ты мой дорогой, когда я сватался за нее, словно барыня какая была она расфуфынимши. Сейчас издохнуть! Шляпка на ней была как кровь красная, – платье, с места мне не сойти, шелковое, самое дорогое! А? Каково?
Восторг солдата в эту минуту дошел до высшей степени. Он бросил ложку на стол, проворно выскочил на середину избы и продолжал:
– Юбка у ней, землячок, так, то есть, распушилась, обхватов примером в пять либо в шесть, словно сена копна, – ты бы, милый человек, со всей семьей досыта нажился там. Только смотри ты теперь, какой я малый не промах. Другой бы что тут стал делать, а? Удрал бы, а я, бра-е-ц ты мой, учтиво так-то, по политике, вычистил сапоги ваксой (ты, поди, не знаешь, и вакса-то что такое?) и говорю ей: так и так, говорю, сударыня! Насчет законного брака переговорить с вами позвольте; а сам ногою-то дрягаю, сапог-то, значит, ей светлый показываю… Вот я какой!
И солдатик, рассказывая это, заливался тем добродушным смехом, каким обыкновенно смеются все счастливые люди.
Мужик, слушая солдата, видно удивлялся его беспримерной храбрости, с которой он сватался за свою барски одетую жену, а суровое лицо работника постоялого двора как-то насмешливо и вместе крайне завистливо уставилось на рассказчика. Кухарка, подавши гостям щи, стала у перегородки, сложила на груди свои так редко праздные руки и умиленно вздыхала, потому, может быть, что ей было не суждено не только носить, но даже и видеть такое богатое платье, которое украшало солдатскую жену, когда она была невестой.
– Вот оно что значит военная служба-то! – удивлялся солдат после некоторого молчания. – Ко всему она человека приучит. Ты давича, дядя Петр, обедал, смотреть на тебя тошно мне было. Пыхтел ты над щами-то, ровно в воз тебя запрягли. А я вот, видишь, как живо дело обделал, потому солдату много ли надо? Ложечек триста свистнул да по избе шагов эдак двести отмотал скорым маршем – и аминь. Так-тось! Не очень мы, служивые люди, любим раздобарывать-то. За раздобары-то нас недолюбливают: бывало, эдак и по спине нашего брата за прохладу-то гладят. Что ж такое? – спрашивал солдат у дяди Петра, как будто самому ему дядя Петр жаловался на то, что ему за прохладу спину гладили. – Не доводи себя до этого – вот и не будут.
Читать дальше