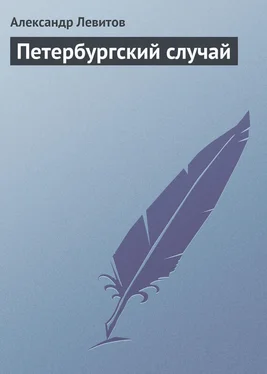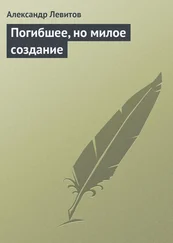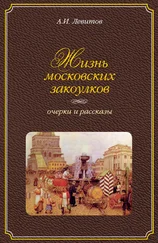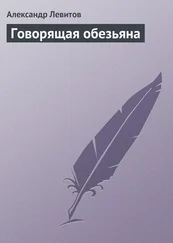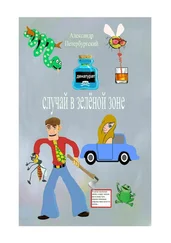Снова Иван Николаевич счел за нужное успокоить кого-то дружелюбными улыбками и рукопожатиями.
– Вот это, Ваня, нравы! И конечно, дорогой мой, и за это нужно быть благодарным, что не весь свой курс специально провалялся ты в грязи и бедности, а познакомился и с другой стороной человеческой жизни; но ведь, милый, ведь все это из ненашенской земли, и потому нужно было вам главным образом не это, а вот что…
– Вот, брат, что вам нужно было, – указывает Иван Николаевич на шкафы с книгами. – Это, брат, не чета вашим запискам. Как там физику-то начинал читать один остроумный и вечно пьяный человек? Не подумайте, говаривал он, разбойники, что физика научит вас заезжать друг к другу в физики более того, чем вы сами понимаете это искусство. Каков каламбур! Нет, Ваня, тут без каламбуров, – прямо к делу. Есть у меня, Ваня, штук пять знакомых молодцов, – я тебя сведу с ними. Посоветуйся-ка с молодежью-то, определи себя, да с богом и присаживайся! Я с тобой, кстати, на старости лет… Эх, жаль, говоришь ты, что Васютка-то Западов умер! Хорошо бы и его сюда затащить. А ведь у меня тоже был приятель – и звали его, как и твоего, Западовым. Так тот упрям был, как не знаю что: взял однажды грудью и животом лег в весенний, растаявший лед – и стал в этой луже валяться. Спрашиваем: что ты делаешь? А он говорит: не хочу в академию ехать, лучше умереть. В два дня действительно свернулся… Очень упрям был покойник; только я уже стал забывать его. Вот ты напомнил…
– Ну, брат Ваня! Хорошо ты сделал, что приехал ко мне. Теперь я тебя не выпущу. Я был, Ваня, очень несчастлив: у меня, Ваня, кроме, ха, ха, ха! мисс Ребекки Шарп, другой любви не было, дружбы тоже не было, а было гнусное, нищенское бесхлебье, а оттого всякого рода унижения и скверности, – была тоска по годам, с которой сладить не было никаких возможностей, – раздумье какое-то проклятое, которое как бы каким облаком закрывало от меня настоящее жизненное течение; а теперь вот который уже год я заперся от всех, чтобы не получать от жизни новых пинков… Устал!.. обробел!..
«Динь! Динь! Динь!» – порывисто зазвенел в это время колокольчик у черной клеенчатой двери.
– Звони! Звони! – насмешливо отвечал Иван Николаевич этому звону. – Теперь, брат, я не особенно вас боюсь. Я теперь отопрусь и переведаюсь с вами! Весь мой опыт тебе, Ваня! Не дам я тебе, сударику, обманутым быть ни людями, ни самим дьяволом…
«Динь! Динь! Динь!» – еще тревожнее залился колокольчик, а Иван Николаевич по-прежнему тихонько посмеивался и, поглаживая бакенбарды, говорил:
– Уж это как дважды два верно, спасу. Хоть бы вы треснули там, звонивши. Ежели он вдастся в умственные зигзаги, какие нас в старину заедали, мы его развлекем.
Всей своей желчью оплюю я эти зигзаги. С женщиной ежели сойдется, – мы приставим ей голову, – редкие они у нас, бедные, с головами-то… Ах, несчастье! Ах, какое губительное несчастье! Пуще заразы пожирает оно наш молодой народ!.. Но ничего, Ваня! Все бог! Может, как-нибудь и от этого оттолкнемся.
За дверью между тем слышалось:
– Надо налегнуть!..
– Известно, налегнуть, – не отпирает кое место. Кто его знает, што он там?
– Што ж? Налягем, коли ежели…
Вследствие этого решения дверь заскрипела, и потом обе половинки ее грянулись на пол передней.
– Мальчик, прячься! Ребенок, хоронись скорее! – кричал Иван Николаевич, пуская в рыжеусого дворника массивным, парящим в небо ангелом.
– Не извольте буянить, ваше высокоблагородие! – резонно и тихо говорил бравый городовой, усаживая Ивана Николаевича в карету. – Не хорошо! Чин ваш этого не дозволяет…
– Вали! Вали! – кричал с подъезда дворник. – Он, брат, тут у нас весь двор поел… Что с ним еще разговаривать-то?..
– Ваня! Ваня! Берегись! – продолжал кричать Иван Николаевич, выглядывая в каретную дверцу. – Смотри, чтобы они и тебя не съели, как меня… Берегись, друг!..
Кучер, намереваясь ударить по лошадям, хлопнул его по лицу ременным кнутом, и Иван Николаевич пугливо скрылся в глубину кареты и зашептал:
– Ишь, подлецы, ишь! За что он меня? За что?
– Потише там, с кнутом-то!.. – крикнул на кучера бравый ундер, и карета тронулась, а Иван Николаевич все шептал что-то, улыбался кому-то, делал самые дружественные и успокоивающие знаки и по временам с совершенно детскою уверенностью, не допускающей никаких невозможностей, спрашивал у сидевшего с ним рядом городового:
– Как думаете: придет ко мне Ваня? А? Нужно бы мне ему еще словечек пару сказать… Так, немножко… Не успел я ему давеча шепнуть… Придет ведь?
Читать дальше