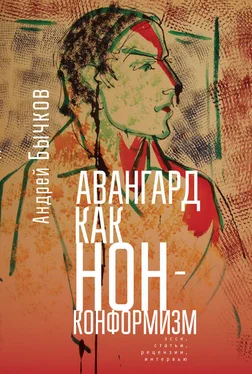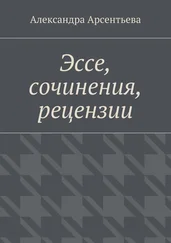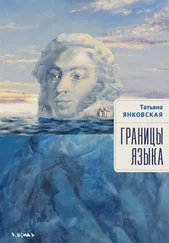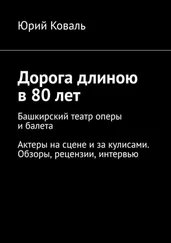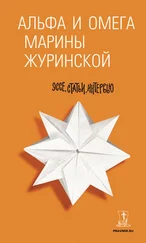Федор ГИРЕНОК:Ну да, поговорим просто о литературе. Я могу сказать, если с русской философией у нас возникают проблемы и мы решаем вопрос о том, существует ли она или не существует, плохая она или хорошая, то с литературой у нас нет проблем. Без русской литературы мировая литература неполноценна. Иными словами, русская литература – это и есть наша философия. Например, у Канта я встречаю выражения, близкие по структуре мысли Достоевскому. Кант пишет, что страдание – источник сознания. И Достоевский об этом пишет. Я читаю «Критику практического разума» – и схожу с ума, оттого что вижу в ней Достоевского, вычитываю в ней его «Записки из подполья». Достоевский – это не Кант, но он обладает способностью формулировать емкие философские формулы. Или вот Мандельштам. Как не прийти в восторг от его «быть может, прежде губ был шепот и в бездревесности кружилися листы»? Ведь здесь затронут нерв философствования вообще. У поэта есть дар от Бога чувствовать слово и есть способность произносить слова в связи с мыслью.
А.Б.: Вот здесь есть за что зацепиться, даже в концепции археоавангарда: чтобы прошлое прорывалось в будущее. Как преодолеть этот странный промежуток, который сейчас образовался – засилье знаков? Как снова вернуться к каким-то сущностным высказываниям и вообще возможно ли вернуться? И если нельзя, то что тогда делать? Повышать порядок симулякров, порядок безумия? Как прорваться на уровень Достоевского?
Ф.Г.: Я думал когда-то на эту тему и пришел к выводу, что где умирает символ, там появляется знак. Знак – это надгробный холмик символа. Известно, что когда человек умирает, приходят архангелы Михаил и Гавриил с тем, чтобы отвести его душу к Богу. Поэт делает то же, что и архангелы. Он своим словом увлекает душу, и она отделяется от тела и идет за ним. А что делать, когда её нет, когда нечего вести? Человек умер, и душу надо вести к Богу. А вести нечего. Не нужны ни архангелы, ни поэты. Спрашивается, как сделать так, чтобы у нас вновь появилась душа? Ведь если она появится, то нам нужен будет Андрей Бычков, чтобы отвести ее на небо.
Проблема же состоит в том, что русская литература перестала быть нашей философией. Почему? У нас есть Сорокин, у нас есть Пелевин. Но это не философия. Это ремесло. Мое собственное говорение – лишь средство движения в некотором коммуникативном пространстве. Т. е. я говорю не потому, что у меня есть мысли, которые я хочу высказать, не потому, что я хочу что-то сказать, а потому, что говорение является способом моего существования в социуме. Мне нечего сказать, но я говорю. Следовательно, я решаю какие-то свои задачи в этом пространстве. Мне нужен продюсер, который будет публиковать мои слова в качестве мысли. Ибо мысль теперь – это все то, что опубликовано в качестве мысли. Так умирает философия. Мартынов говорит, что и литература таким же образом закончилась. Это означает, что она больше не пророчествует.
А.Б.: Мне сейчас вспомнилась идея Ницше о вечном возвращении, когда он говорит, что в воле действует два вектора: «да» и «нет». Это «да», по идее, должно снова возвратиться, но силы отрицания, силы реакции, декаданса и вырождения так повернули всю историю, что они сейчас – сильные мира сего. И нам, как воздуха, не хватает возвращения позитивного аристократического утверждения высших ценностей. Такое «да» было в русской классике у Толстого, у Достоевского, но, в отличие от них, мы, увы, утеряли к нему ход. И теперь у нас тоже осталось только «нет», но мы его говорим его тому «позитивному нет», которое победило – этому капитализму, этому подобию государства, всей этой системе, которая нас угнетает. В принципе, поле для высказывания осталось, но оно – отрицательное. В этой ситуации писателю остались отрицательные высказывания. То «да», которое было в русской классике, увы, утеряно. И сегодня писатель просто не знает, как сказать «да».
Ф.Г.: Говорят, что русская литература водительница, учительница жизни. Мол, сегодня надо нам перестать быть учителями. Нужно просто тексты делать. А раз я делаю текст, значит, я не даю кому-то смыслы, а, напротив, прошу: «придайте смысл тому, что я делаю – там ничего нет». Поскольку я делаю текст, постольку я допускаю, что теперь всё зависит от читателя. Мне нужен кто-то, кто бы пришел – умный, энергичный, эмоциональный, с чувствами и придал смысл написанному мной тексту. Но это уже не пророчество! Это не литература. Писатель становится скриптором. Он уже никого никуда не ведет. Он нуждается в понимающем чтении публики. Его текст – это некоторая пустышка, какая-то красиво сделанная вещь, отсылающая к другому тексту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу