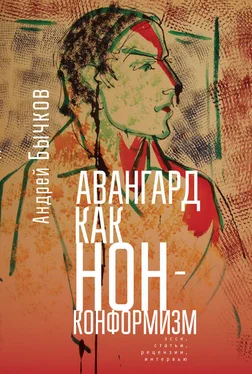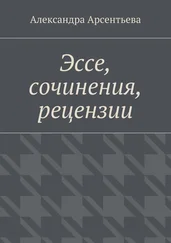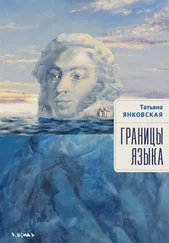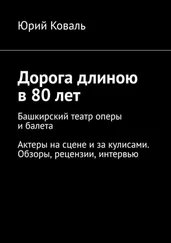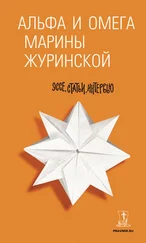И.К.: Как Вы относитесь к концепции смерти литературы?
А.Б.: Вранье собачье! Собакам и собачья смерть!
И.К.: Разделяете ли Вы мнение о том, что в наши дни литература редуцировалась до авторского стиля? Может ли писатель позволить себе стилистически необработанное литературное высказывание?
А.Б.: Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Только я бы не стал называть это редукцией. Стилистические задачи остаются высшими задачами как всего искусства в целом, так и литературы. Не надо только путать стилистические поиски с разработками той или иной манеры. Манера всегда остается внешней по отношению к содержанию. Стиль же способен его породить. Открытие нового стиля – открытие и нового аспекта реальности.
И.К.: Литература и метафизика: выдерживает ли литература конкуренцию с наркотиками, религиозными и мистическими практиками и другими средствами расширения сознания?
А.Б.: Речь здесь не о конкуренции, а скорее о некоем избранничестве. Язык, возможно, и не первичная, фундаментальная данность. Но именно он открывает аристократические горизонты свободы духа. Без этой свободы высказывания не может быть и никакой подлинной мистики, внешнее молчание ничего не решает, священные тексты и книги, написанные возвышенным поэтическим языком, – основа любой традиции, даже если она начиналась и с устной передачи. Чем более грандиозен наш внутренний опыт, тем и больше желание выразить его в языке, как будто бы он – его внешняя ипостась. Не стоит преуменьшать могущество языка, он и сам по себе способен создавать миры, не менее трансцендентальные и причудливые, чем бессловесная игра фантазии. Все же, именно он – судьба человечества, особенно сейчас, когда боги уходят в свою даль. Техника – это тоже, прежде всего, язык. Мы движемся волевой поступью знаков.
И.К.: Можно ли назвать современную русскую литературу постмодернистской или это все-таки затянувшийся, сгнивший модерн?
А.Б.: В игры определений обычно любят играться критики и литературоведы. Наверное, это и не так плохо. Но это работа уже – после. Писатель же всегда должен находиться в сейчас, потому что оно опережает после. Лично мне «комфортнее» называться авангардистом, хотя меня в свое время одним из первых записали в антипостмодернисты, а потом – в метафизики.
И.К.: Вы сталкивались с внутренней цензурой русских издательств и изданий? Если да, считаете ли Вы это временным явлением или базовой характеристикой русского литературного процесса?
А.Б.: Цензура – не то слово. Здесь надо говорить о терроре. Лучших авторов не пускают в литературу и откровенно замалчивают. Издатели упиваются своей властью, им кажется, что это именно они делают литературу. Они мнят себя трансляторами великих идей. И свою миссию видят, конечно же, ни больше, ни меньше, как в освобождении нашего несчастного общества. Не важно, от кого или от чего – от Советов, от олигархов, от чиновников, от бюрократов, от кавказцев, от русских, от ментов. Высшей ценностью они, конечно же, считают гражданский пафос, они же, как никак, строят гражданское общество (и мы все видим результаты их работы). Они все день и ночь работают «на пользу и благо» всего нашего многострадального общества, все эти так называемые эксперты литературного процесса, возомнившие себя его высшей инстанцией. Если бы при этом они хоть что-нибудь понимали в литературе… В журналистике, возможно, – да. Но только не в литературе и, тем более, в ее искусстве и в ее метафизике. Подобные персонажи тешат свое самолюбие причастностью к истории. Но ведь они пришли к власти вместе со всеми этими олигархами, ворами и бандитами в девяностые. И как бы они ни обличали посредством своих социал-демократических авторов сначала советский, а потом и этот мерзкий постсоветский режим, они – его неотъемлемая часть, и того и другого. Они – часть Системы, ее обличение – их бизнес, их капитал. А по отношению к нам – они лишь бездарная литературно-публицистическая гэбня…
И.К.: Может ли современный литератор быть «голосом молчаливого большинства»/«голосом деспота» или его творческое высказывание персонально?
А.Б.: Все вышеперечисленные возможности сегодня, увы, лишь симулятивны, и потому могут реализоваться только за счет стилистических потерь. А, следовательно, и за счет «подлинности» художника. Как выясняется, окружающему нас миру наплевать на наши литературные амбиции, он информационно вздувается, как на дрожжах, он залезает нам под кожу, он входит в подкорку. Смыслы сдвинуты. Все сорвалось со своих мест. Все куда-то понеслось. Но только, увы, не вперед. Все, как говорит, Бодрийяр, выведено на орбиту. Но искусство – это не калька, чтобы взять и вот так вот все это описать один к одному. Надо найти новый имманентный закон и выразить происходящее в языке, в новой адекватной стилистике, найти таинственную транскрипцию. Тогда появится и новый «молчаливый голос большинства» и новый «голос деспота» и высказывание при этом будет «персонально».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу